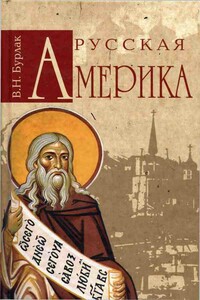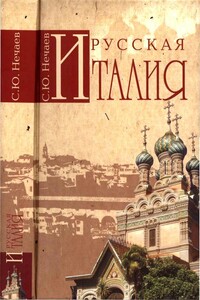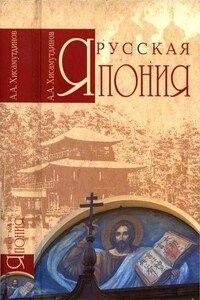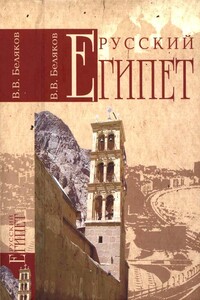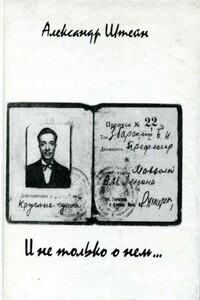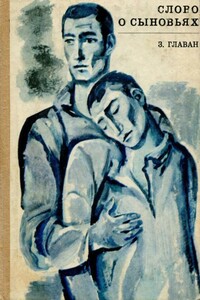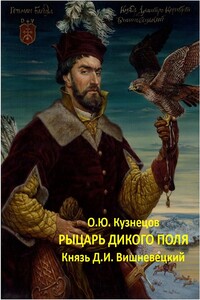Русский Берлин | страница 24
Желание глубоко внедрить постулаты римского права в отечественную юриспруденцию российским правительством, однако, оставлено не было. Спустя несколько десятков лет, после отмены крепостничества, новые экономические отношения, снижение в них роли государства и увеличение роли частного капитала потребовали новых подходов в правотворчестве. И российское правительство, с учетом опыта Сперанского, предпринимает вторую попытку создания в Берлине курсов для подготовки русских юристов за границей. При Берлинском университете в 1887 г. создается Русский институт римского права, просуществовавший почти десять лет. В Германии его называли «Русским семинаром», в России — «Временными курсами» и «Берлинской семинарией». Как и институт Сперанского, он финансировался из российской казны. Занятия вели корифеи немецкого правоведения Г. Дернбург, А. Пернис, Э. Экк… В числе выпускников Русского института мы видим таких выдающихся деятелей российской научной юриспруденции, как И. А. Покровский, Л. И. Петражицкий, П. Э. Соколовский, А. М. Гуляев, А. С. Кривцов, М. Я. Пергамент, В. Юшкевич, В. фон Зеелер…
Требования к слушателям были очень высокие. Из 26 студентов приват-доцентами и профессорами российских университетов стали только 15 человек. Как и в группе Сперанского три с лишним десятилетия назад, часть студентов оказалась восприимчивой к либеральным идеям, поляк Фома (Тадеуш) Семирадский даже использовал учебу в Русском институте как прикрытие своей социал-демократической деятельности.
Возвращавшихся из-за границы «берлинцев» на российских юридических факультетах нередко воспринимали как баловней судьбы, потому что им еще до сдачи экзамена на магистра гарантировались трудоустройство, право чтения своего лекционного курса и защиты диссертации, а следовательно, повышенное жалованье.
«Но, так или иначе, — пишет в своем исследовании директор Санкт-Петербургского филиала Центра изучения римского права Антон Дмитриевич Рудоквас,[4] — нельзя не признать, что именно выпускники Берлинского института определили высокий уровень российской юридической романистики начала XX в., тот уровень, которого она не имела ни до, ни после этого периода».