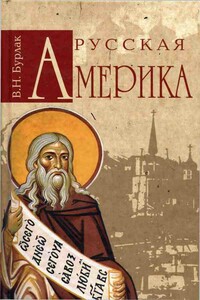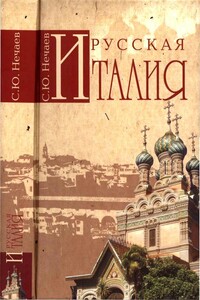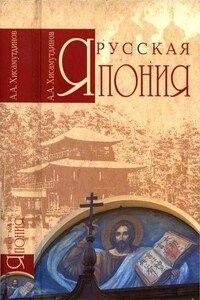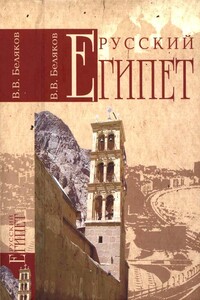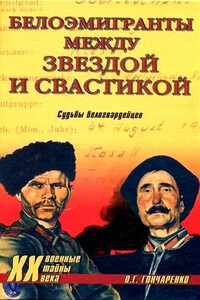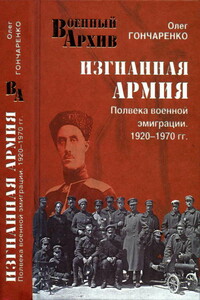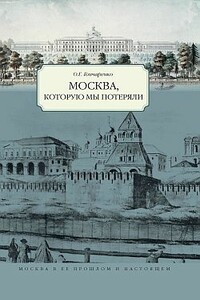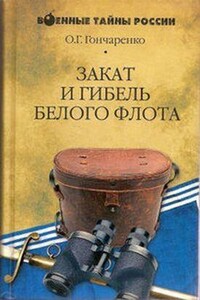Русский Харбин | страница 5
Как и многие другие рациональные идеи, предложение нашло отклик у державного преобразователя русской земли, и вскоре после того Министерством финансов Российской империи был предоставлен заем Китаю в 400 млн. французских франков в качестве вклада в уставный капитал Русско-Китайского банка — одного из проектообразующих финансовых столпов будущей железной дороги. Учрежденная концессия по согласованию с китайским правительством давала русским право экстерриториальности полосы отчуждения и формально заключалась с китайцами от имени Русско-Азиатского банка для Общества КВЖД, акционерного предприятия, созданного для извлечения коммерческой выгоды. Контрольный пакет общества размером в одну тысячу акций передавался по согласию акционеров в руки российского правительства.
22 мая 1896 года по старому стилю в Москве между уполномоченными двух стран был подписан соответствующий секретный договор, по которому правительство Китая разрешило Русско-Китайскому банку приступить к финансированию строительства и участвовать в управлении и последующей эксплуатации железной дороги на территории Северо-Восточного Китая.
Дипломатические представители Китая, обсуждавшие с представителями МИД России этот документ на переговорах, не были особо щепетильны с российскими коллегами, постаравшись сразу же насытить содержательную часть договора такими условиями, чтобы, получив от российской дороги максимум экономических выгод, постараться загнать партнеров в рамки многочисленных обязательств. Российские дипломаты с сожалением вспоминали, что подобный тон переговоров китайцы не позволили бы себе при обсуждении с державами Запада и, в меньшей степени, с Японией. Для примера можно рассмотреть лишь две статьи из подписанного соглашения, чтобы понять неуместность, а порой даже абсурдность китайских претензий. Так, в Статье 4-й говорилось о том, что перспективное соединение будущего железнодорожного пути с российской веткой дороги не должно никоим образом послужить предлогом к каким-либо возможным действиям по использованию китайской территории в российских коммерческих интересах. В Статье 5-й отмечалось, что лишь в мирное время Россия будет иметь права на транзитный провоз своих войск и боеприпасов по линии, да и то лишь с теми остановками в пути, которые могут быть обусловлены крайней технической необходимостью.
Опасения китайских дипломатов относительно возможной военной интервенции, как показало время, были напрасны. Вплоть до Первой мировой войны из военизированных российских структур в Маньчжурии размещалась лишь Пограничная стража Заамурского округа, да немногочисленные подразделения жандармерии и полиции. Согласно все тому же договору с Китаем, русские войсковые части размещались для охраны арендованной на 99 лет полосы Китайско-Восточной железной дороги, и главным их предназначением являлось противодействие участившимся случаям грабежей и разбоев, которыми в тех местах промышляли хунхузы. Как известно, к моменту заключения договора в северной части Манчжурии продолжали действовать жестокие банды «краснобородых» или «хунхузов», появлением своим обязанные вполне конкретным историческим обстоятельствам. В 1898 году в ответ на расширенный приток иностранного капитала в Китай, вступление иностранных армий под предлогом охраны национальных концессий и попутную насильственную «христианизацию» местного населения в Северном Китае поднялось так называемое Боксерское восстание, направленное против иностранцев вообще. Русские подданные в Северо-Восточном Китае, трудившиеся на строительстве дороги, именовали этих «повстанцев» хунхузами или просто бандитами. Хунхузы, объединившиеся в банды, продолжали устраивать свои набеги на русские и китайские поселения и после подавления Боксерского восстания. Еще в течение длительного времени во многих районах Северо-Восточного Китая они серьезно угрожали своими бесчинствами, грабежами и убийствами не только постоянно проживающему населению или случайно оказавшимся здесь немногочисленным путешественникам, но и транзитным железнодорожным составам.