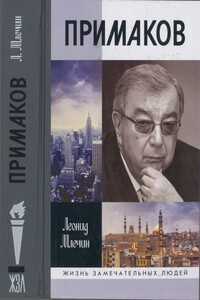Подконвойный мир | страница 26
За теплой влажной прелью барака Журина охватил, ослепил, понес снежный шквал; злющий колючий пронизывающий ветер протяжно надрывно выл:
— У…у…убью! У…бью… у…у…у..!
— Вы были у воров? — спросил в бараке Пивоваров. — Вам удалось помочь Шестакову? Я сразу понял, куда вы ушли. Хотел с вами, но вспомнил этих вагонных драконов и остался.
— Страшные люди, — произнес Журин, залезая на нары, — против всего на свете ожесточены.
— Люди как люди, — отозвался Солдатов, почесываясь. — Обыкновенные люди и злоба обыкновенная. Вот, скажу я вам, сидел я недавно в камере вдвоем с мужчиной. Матёрый хват. Герасимовичем звали. Начальником автоколонны был в Подольске. В партии состоял. Долго сидели. Надоел — хуже тухлой селедки. Под конец стал я побаиваться, что или он меня сонного придушит, или я его. Ненависть такая друг к другу распаляется в этих подлых клетках — и ни за что. Просто — противен человек, каждое его слово, привычки, ужимки — все отвратительно, а тут еще — эта параша, безделие. Смотришь друг на друга день и ночь и некуда деться. Он читает твои мысли — ты его, и чувствуешь, что жить он тебе мешает, что ненавидит, хочет твоей смерти. Следователи это знают и часто таких стравленных петухов заставляют друг на друга брехать. Так и дело стряпают. — Так вот: Герасимович этот в дни, когда мы еще рассказывали разное друг другу от скуки и душевного беспокойства, такое выкладывал:
— Отступали мы, — рассказывал, — поодиночке летом 1941 года. Спасались, кто как мог. Набрёл я на окопчик в степи. Смотрю: сидит интеллигент. Очки, морда холёная, лоб с фантазией и обматывает левую ладонь мокрыми кальсонами. Под кальсонами — дощечка. Все честь честью, чтоб не догадались, что самострел. Только он это винтаря приставил и, зажмурясь, рукой дрожащей собачку нашарил, я — как гаркну. Он и сел, обомлел. Я — к нему. Обшарил. Смотрю: партийный билет, удостоверение: заведующий районным земельным отделом. Очнулся он, в ногах валяется, просит, чтоб не выдавал. Забрал я у него планшетку — понравилась, мотнул слегка сапогом в рыло и поканал. Чувствовал, что зверь во мне пробуждается, кровь клокочет как суп в горшке. После пожалел, что не тюкнул. От таких вся чернуха в жизнь пёрла: кампании, садиловки. Всюду фронты и со всеми борьба. С каждой Марфой борись: «На капустном фронте», «на сорняковом фронте» — всюду человеку юшку пускают и жилы выматывают.