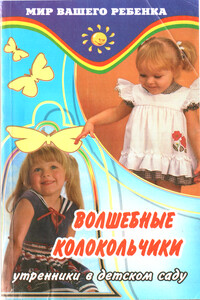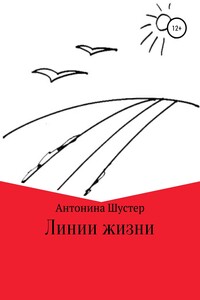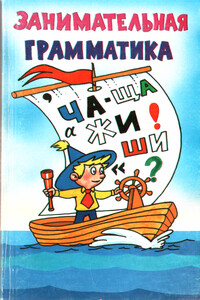Воспитание свободной личности в тоталитарную эпоху. Педагогика нового времени | страница 116
Еще полтора года назад, оценивая сказанное выше с учетом созданного в стране путинского идеологического контекста, я, пожалуй, проявил бы скепсис – мол, ничего у нас с изменением модели мышления россиян не получилось. Ан нет! Еще как получилось! Когда сто тысяч человек открыто заявляют власти, что она их не устраивает, – это сигнал к размышлению. Если эти сто тысяч представляют креативный класс и интеллектуальные элиты общества – это призыв к капитуляции. И хотя Кремль пытается выдать произошедшее на Болотной площади за «норковую революцию» и протест «возомнивших о себе московских хипстеров», всем аналитикам уже понятно: человеческий капитал, определяющий стратегические направления развития российского государства, вошел в непреодолимое противоречие с правящими властными элитами. А значит, последние обречены.
Чистая порода и горшок с испорченным медом
В нашей стране воспитание молодого поколения осуществляется в основном системой образования (соответствующими министерствами) и системой работы с молодежью (комитетами по делам молодежи). Несмотря на то что на федеральном уровне их формально объединили в структуре министерства образования, в регионах они продолжают жить сами по себе, активно конкурируя друг с другом.
Комитеты по делам молодежи – или «Комитеты по борьбе с молодежью», как их немило называют деятели образования, – по определению находятся в менее выгодном положении, поскольку молодежь школьного возраста чисто физически большую часть своего времени находится именно там, где ей положено быть, – в образовательных учреждениях. Так что школа – территория для этих комитетов малодоступная. Если помните, в советское время все было наоборот – школьную воспитательную политику определяли именно комитеты ВЛКСМ через патронируемую ими пионерию.
В результате за 20 лет, прошедших после начала перестройки, в области работы с молодежью был проведен строгий водораздел по возрастному принципу. В высоких кабинетах министерства образования мне даже сделали замечание: «Вы все время говорите “молодежь”. Это неверно. Мы работаем с детско-юношеской аудиторией. Молодежью занимаются другие ведомства». Вот и получается, что реально формированием личности молодого российского человека на региональном уровне занимаются не очень ладящие между собой ведомства – департаменты образования и молодежные структуры, имеющие свой статус в местных иерархиях.
Кто бы подсказал, как объяснить коллегам необходимость сквозной воспитательной политики, направленной на детей и молодежь от рождения до реальной взрослой автономии?