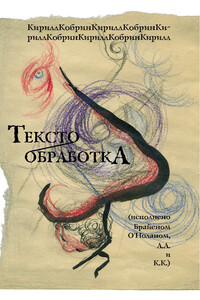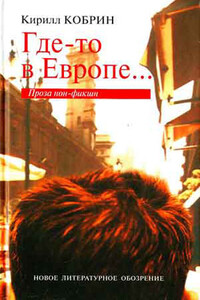Книжный шкаф Кирилла Кобрина | страница 32
Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. М.; СПб.: Языки русской культуры, 2000. 273 с.
К черту всю «взвешенность», «объективность», «отстраненность»! К дьяволу интеллигентскую иронию! Уже чтение «Содержания» этой книги дарит истинное наслаждение. За двойным (без содовой!) «Предисловием» (А. М. Пятигорского и собственно авторским) следуют (цитирую, из экономии места, выборочно) «Da саро», «А вместо сердца пламенное mot», «Орфоэпия смерти», «Пушкин-обезьяна», «Эротика стиха», «Все». Все.
Наслаждение нарастает по мере пожирания текста книги. Во-первых, дух захватывает от величия замысла. Авторы, будто археологические гении, обладающие абсолютным нюхом на богатство культурного (в данном случае – полилингвогого) слоя, обнаружили под фундаментом уже давно знакомого нам Дворца Поэзии Мандельштама (не говоря уже о высотках Маяковского, даче Пастернака, кочевых становищах Хлебникова) целый мир, точнее – миры, потайных ходов, подвалов, погребов, битком набитых винами, припасами и всяким иным добром немецкого, латинского, французского, английского лексического производства. Эти подземные, потайные миры придают знакомым поэтическим строениям иной смысл, населяют их истинной жизнью и целесообразностью. Авторы «Миров и столкновений» эти миры истолковывают, толкуют, перетолковывают. В эпоху, когда само словосочетание «научное открытие» не несет иных значений, кроме издевательского, сделана именно масса научных открытий.
Во-вторых, книга потрясающе написана. Мой любимый текст в ней – «Адмиралтейская игла». Сама «игла» – «не мечтательная недотрога, отраженная в тысяче зеркал цитат, а хищная хозяйка мастерской совершенно новых тем и сюжетов». Звукозапись – «мумифицирует тело голоса с последующим воскрешением». Наконец, об одном из назначений поэзии: «Последняя функция универсального поэтического прибора – измерения давления пара в государственном котле».
Честно говоря, я думал, что таких книжек сейчас больше не пишут. Она напоминает мне счастливые для читателей времена, когда изящная словесность, филология и философия были заодно. Веселая наука.
Андрей Синявский. «Опавшие листья» Василия Васильевича Розанова. М.: Захаров, 1999. 318 с.
Перед нами очередной том собрания сочинений Синявского (впрочем, ненумерованного), затеянного издателем Захаровым. К сожалению, это значительное в нынешней книгоиздательской и культурной ситуации событие как-то не получило должного резонанса. Между тем Синявский если не «наше все» в неподцензурной, вольной послевоенной литературе, то «почти все». Его влияние – прежде всего, стилистическое, даже, я бы сказал, интонационное – испытывают на себе многие литераторы, и не только с богатым андерграундным прошлым. Его политическая позиция, бескомпромиссная, этически безупречная, и ныне не многим по зубам (да и по ноздре, как выразился бы Набоков). Быть может, поэтому Синявского после его смерти стали вспоминать все реже и реже…