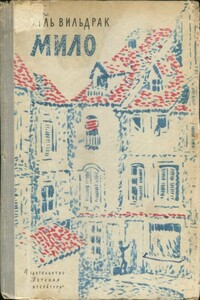Тайна трех неизвестных | страница 75
Как хорошо жить на свете, если тебя спас от смерти твой самый лучший друг!
Эх, Павлуша, Павлуша! Какой же ты молодчина! Все тебе прощаю: и твою измену, и рисование, и твои обидные слова, и то, что Гребенючку защищал, когда я ей комком по юбке влепил, и то, что ты не дальтоник… Прощаю! Это все не твоя вина. Это все она… Ну, не буду! Не буду! Даже в мыслях не буду! Пусть она хоть сбесится, твоя Гребенючка! Хоть целуйся с ней, я в твою сторону даже и не гляну.
Отвернусь. Главное для меня — что ты такой мировой парень! И нет у меня в целом мире лучшего друга. Я бы даже поцеловал тебя сейчас, да не умею. Не целуются ребята друг с другом, не принято. Это только взрослые мужчины, когда они друзья, целуются.
Понимаешь ли ты все, что я думаю? Да, наверняка понимаешь. Я по смеху твоему чувствую, даже по тому, как ты дышишь. Я ведь тебя так знаю, как никто на свете, как мать родная не знает.
Наконец мы перестали смеяться, и Павлуша сказал:
— А ты все-таки молодец… Я не знаю, решился бы вот так нырнуть в окно… Это ведь погибнуть — девяносто шансов из ста. Да стоило ли еще? Что она могла там, за иконой, прятать? Ну деньги… Ну облигации трехпроцентные… Да чтоб они сгорели! Из-за них голову класть? Да черт с ними!!!
Ух ты! Я ведь совсем забыл про тот продолговатый сверточек. Торопливо хватаюсь за свой карман. Есть! Когда я держался за лампочку, то сунул его в задний карман штанов да еще на пуговицу застегнул, чтоб не выскользнул. Не мог же я его бросить, раз из-за него сюда полез. А в руке он мне мешал.
Ой-ой! Если там облигации или деньги, то, может быть, из них уже каша в воде получилась. А ну, посмотрим! Отстегнув пуговицу и оттопырив карман, я осторожно вытащил сверток.
— Да ты что — все же достал? — удивленно воскликнул Павлуша.
Он-то был уверен, что я не достал, и успокаивал меня: «Черт с ним! Да чтоб они сгорели!» А тут смотри-ка… Мне так приятно было видеть его удивление, что даже кровь в голову ударила. Уж только из-за этого стоило нырять и испытать все эти передряги. Лучшей похвалы, чем Павлушино удивление, для меня и не могло быть.
Но показать, что мне приятно, я постеснялся и только махнул рукой: да, мол, что уж тут такого?
— А ну, посвети фонариком, — попросил я Павлушу и начал осторожно разворачивать сверток — газету, в которую было что-то завернуто. Мокрая старая газета не столько разворачивалась, сколько отпадала мягкими невесомыми клочьями. Наконец газета то ли развернулась, то ли распалась, и мы увидели свернутые трубкой какие-то листки бумаги, исписанные карандашом. Я склонился пониже и прочитал на сгибе: «…снова в бой. Береги дочурок наших и себя. Целую. Михайло…»