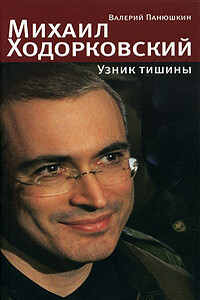Все мои уже там | страница 73
– Круто! – сказал Толик, когда понятно стало, что для расшифровки одной поэтической строки нам понадобилась бы пара страниц прозы.
По ночам, когда мы расходились по своим спальням, я часто лежал и думал, отчего бы Толику с таким удовольствием выполнять все эти не свойственные для него задания. Я лежал с открытыми глазами в темноте. За окнами ухала какая-то печальная птица, которую я, не разбирающийся в птичьих голосах, называл неясытью и представлял себе маленькой совой с испуганными глазами, похожими на двухевровую монету. Позже, когда лето вошло в свои права, неясыть ухать перестала и пели соловьи, про которых я знал, как они выглядят. Я лежал, смотрел в темноту и слушал. Откуда-то из глубины дома доносились истошные любовные крики Ласки, и это значило, что девочка занималась сексом с Обезьяной. Или тихо, но ритмично поскрипывала какая-нибудь мебель, и это значило, что Ласка занималась сексом с Банько. Я лежал, смотрел в темноту, и про Ласку мне все было понятно: Обезьяну она любила, а Банько она жалела.
Где-то далеко за забором шумели автомобили, продолжалась жизнь, про которую я не имел никаких известий. Временами я слышал милицейские сирены. Иногда двигатели автомобилей, проезжавших там далеко за забором, были не сдержанно-представительскими, а отчаянными и ревущими. И я воображал себе, что вот едет мимо нашего дома по Рублевке какой-нибудь «щенок» из высокопоставленной семьи – с напудренными кокаином ноздрями и на спортивной «Ламборгини». Я лежал и слушал, как замолкают на несколько минут соловьи.
Когда становилось совсем тихо, я слышал, как внизу в кустах под окном копошатся ежи. И еще я слышал, как бьется мотылек о стекло. И на фоне всех этих ночных звуков каждую ночь я так и эдак прикидывал в голове про Толика, зачем он все это делает? Мысль перекатывалась в мозгу, как в детстве карамелька перекатывается во рту у ребенка, постукивает о зубы, расплывается в кислый и сладкий сок и приятно язвит небо.
Проще всего было бы думать, что Толик занимается со мной фехтованием, логикой и литературой по причине насилия, которое в первые дни так решительно применял к прапорщику Обезьяна. Но прапорщик мой не выглядел человеком, которого просто заставили заниматься. Он мог бы заниматься из-под палки, однако же мне всерьез казалось, что двадцатипятилетнему этому громиле интересно. Или нет? Или не может быть, чтобы милиционеру интересно было разбирать стихи Гумилева и Бродского? У меня не было ответа.