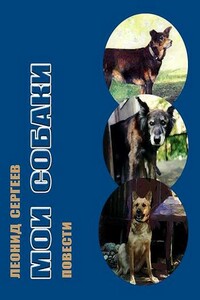Хорошая жизнь | страница 40
Мне не нужно было денег, не нужна была еда. Нужда была, но не нуждалась. Не Верина ошибка, моя. Думаю, Вера так жила все сорок шесть лет, а я еще и не начинала. Зачем мне ее деньги, когда я хочу просто говорить с ней. Зачем мне еда, если мне важно слышать, что у нее внутри. Зачем мне опека. Зачем мне подмена любви милостыней. Зачем мне знать, что я принимаю нелепые правила игры «обмани меня, если сможешь». Зачем Вере в делании ее Великого Дела знать, что у меня есть мое дело, своя тоска. А, главное, зачем нам понимать, что другого не будет.
Мне не хотелось видеть то, что я увидела. Кажется, будто я подсматривала в замочную скважину, в то время как Вера была собой. Только Вера по-прежнему ни в чем не виновата. Ну, а то, что меня немного сплющило, это мои проблемы. Проблемы человека, которого никогда не интересовала тупая как лезвие, злая, сермяжная правда. Эта правда не бреет, она делает из нас инвалидов. А мне всего-то и нужно было, не больше, всего ничего. Не стать поленом. Не стать Гуимпленом после бритья сермяжной правдой. Не умереть пока меня спасают.
Сермяжная правда все же сделала из меня Гуимплена накануне прибытия гуманитарной миссии. Пустота достигла критической массы. На мониторе высвечивалось только одно сообщение, Вера тебя не любит. Больше, уже, навсегда не любит, и еще. Она тебя вообще не любила. С июня по февраль не любила, до июня не любила, и после февраля тоже не будет любить. И работа здесь ни при чем. Холодная, трезвая мысль, которой раньше было отказано в существовании. Вера не любила меня вообще. Тогда к Вере полетел почтовый голубь. Голубь сложно сказал, отпусти. Стало легче, стало тяжелее. Прожитое нами выглядело прошедшим мимо. Никто ни в чем не виноват, даже если я злюсь. Вот закончились сигареты и корвалол, но меня спасла подруга-брюзга. Вот Вера звонит каждый час, но я не поднимаю трубку. Вот умирает надежда, и я не спешу в реанимацию.
А вот в двенадцать ночи Вера стоит у моей двери. После письма с просьбой отпустить она стоит у двери невозмутимо, улыбка и пакет продуктов. Говорю, Вера, мне не нужны продукты, не нужны деньги, забери, уезжай. Просто оставь меня. Сделай однажды то, о чем я прошу, ты ведь читала письмо, зачем же приехала. Откуда ты знаешь, читала я письмо или нет, спросила Вера. Не прочти она письма, не приехала бы успокаивать меня. Голубь внятно доложил, давно наступил край. Вера знала, она читала, но отказывалась уходить с продуктами. По-прежнему видела только один край. По-прежнему края не видела. Вера не любила меня и не отпускала, она меня кормила. Из жалости ли, или потому, что хотела отдать долги, или потому, что именно таким ей представлялось торжество Великого Дела. А для меня, отважного Гуимплена, тогда важнее права на жизнь было право умереть от голода. С Верой или без нее. Лучше без. Из пакета вкусно пахло, я тупо смотрела на продукты и деньги, мне очень хотелось позавтракать в двенадцать ночи, но случилась беда. Да, нужда есть. Нет, не нуждаюсь. Ты помнишь, кто ты. Это вопрос. Помнишь ли ты, кто ты. Никто ни в чем не виноват, даже если Вера злится. Разгневанная Вера стояла в прихожей, курила, и ее лицо тогда не было лицом человека, делающего Великое Дело. Не было лицом подвига. Она тоже тупо смотрела на продукты и деньги. Она не понимала. Вера не понимала, зачем приехала. Не понимала. Пока я принимала ее помощь, понимала. Я отказалась принимать, и Вера перестала понимать. Думаю, она не понимала и тогда, когда я не сопротивлялась помощи, но выявить понимание или его отсутствие при приеме передач не представлялось возможным. Вахта есть вахта.