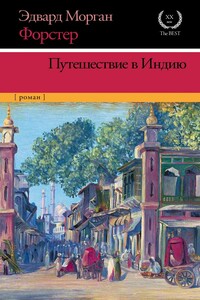M/F | страница 40
Если найден Он сейчас, то будет Он найден и после. Если же нет, то окончим мы дни свои в городе мертвых. Шандлер уже не лежал, а сидел, вцепившись в сиденье диванчика и приподняв обе ноги над полом, залитым трюмной водой. Он как будто пытался прочесть что-то на мокром полу — бестолковый, сопливый, страдающий крепким запором придурок, читающий комиксы в туалете. Я сказал:
— Заливает.
— Что? Куда?
— Надо быстрее откачивать воду.
Свет в каюте померк, превратившись в оранжевый шепот. Шандлер издал приглушенный оргазмический крик и сказал:
— Иона.
— Вода в батареи попала. Кто Иона? Я?!
— Таких напастей у нас раньше не было.
— А не пошел бы ты в жопу, стихоплет — яйца всмятку. Помоги лучше поставить помпу.
— Это несправедливо. Альфреду Казину нравились мои стихи.
— Все равно встал и пошел в жопу, пиит недоделанный.
И вот тут-то оно и случилось. Яхта не удержалась на гребне волны, накренилась, вздыбилась и пошла в глубину, вниз, вниз, вниз. Прежде чем еле теплящийся свет отрубился уже окончательно, все, что было в каюте, устремилось взбешенным галопом к левому борту: банки с тушенкой, булькающий открытый бренди, конопатки, мочки, узлы, гаечные ключи, кастрюли, тарелки, дымовая труба, ножи, сыр, сундук мертвеца и бочонок рома, мешочек с нитками и иголками, секстанты, плоскогубцы, линейки, бушприты, швартовы, бакштовы и ватервейсы, а может, и нет — я все-таки не моряк. Но я помню грохот, такой человеческий и смачный, заглушивший рев моря и ветра. Резкий рывок, бросок — что-то вроде. И абсолютную, кружащуюся, пьяную, мертвую темноту. Конечно же, у меня в голове продолжала гореть крошечная свеча, давая достаточно света, чтобы я мог разглядеть воображаемое ухмыляющееся лицо, мое собственное лицо, говорившее: Ты же этого хочешь, да? Гибели формы и крушения порядка? А потом меня что-то ударило, очень острое, вроде угла стола, и этот внутренний свет померк, и я провалился в хлюпающие обломки, во чрево Ионы, в черный и влажный зонт китового уса.
Я очнулся в болезненно-холодном свечении — рассвет и выздоравливающее море. Лихорадочный жар выгорел полностью. Я лежал на спине, на одном из диванчиков, хлюпавшем, как туалетная губка, в ритме движения яхты. Я был один. Шандлер, должно быть, на палубе или за бортом; Эспинуолл, мрачный и торжествующий, — как всегда, за штурвалом. Штормовка по-прежнему была на мне, и я вроде бы не промок. Ощупал голову, где болело, и нашел в волосах нехорошую глубокую рану. На запрос онемевших негнущихся пальцев отозвался жесткий, негнущийся, в корке запекшейся крови колтун. В каюте по-прежнему — полный раздрай, но воду уже откачали, так что на полу ничего не плескалось. У меня в животе, во чреве Ионы, заурчало требовательно и грубо: