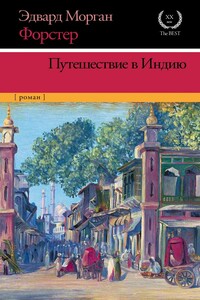M/F | страница 39
— Но Экхарт был великим мистиком, — сказал я.
— Великим сукиным сыном он был, этот Экхарт. Тот еще прохиндей и обманщик. Если бы не этот ловчила Экхарт, я бы не оказался там, где сейчас.
— А где ты сейчас? — спросил Шандлер. — Или, лучше сказать, где мы сейчас?
— Где бы мы ни были, все равно это где-то в Карибском море.
Прихватив по пути сандвич, Эспинуолл склонился над картой на штурманском столике. Погруженный в горестные раздумья, он откусил от сандвича, долго жевал, а потом объявил:
— Маловато горчицы.
— Ну извини, — сказал я.
— А ты у нас прям богослов, этакое дитя Божье, — сказал Шандлер. — Святой Бернард у меня на соске, все дела.
— Да ты весь в Бога наряжен. Ходишь в Господнем исподнем. Это что, вроде как апотропей? Чтобы отпугивать бури и прочих злых духов?
— Ты помолчал бы о Боге, — невнятно проговорил Эспинуолл сквозь хлеб, салями и «маловато горчицы». — Нам нужна вся удача, какая есть.
Бог, как дог, услышавший свое имя, прыгнул на нас в своей непомерной слюнявой радости. Море взревело и вгрызлось в кости яхты в пароксизме разыгравшегося аппетита. Мы раскачивались на сотрясающейся крыше волн, как на лошадке-качалке. Эспинуолл воскликнул:
— Господи Боже, Иисусе милосердный.
На нас обрушился апокалиптический грохот, а потом раздались глухие удары крыльев взбешенного, обезумевшего архангела. Эспинуолл побежал на палубу, держа в руке сандвич, а я зачем-то пошел за ним. Шипящая морская пена накинулась на нас в исступленном экстазе. Эспинуолл яростно сунул в рот сандвич, но тот тут же вывалился обратно, когда у Эспинуолла отвисла челюсть и он потрясенно уставился на лохмотья изорванных в клочья тряпок, бьющиеся на ликтросах, на съеденный заживо штормовой стаксель, на громыхающие шкот-блоки. Потом он с ненавистью взглянул на меня и принялся выкрикивать приказы, которые ветер глотал не жуя. Сверни, сверли, как-то так. Нет, перлинь. Знать бы еще, что такое «перлинь». Эспинуолл сам побежал на бак, нецензурно ругаясь, а я что есть силы вцепился в поручни. Потом увидел, что такое «перлинь»: что-то вроде каната. Мы с Эспинуоллом, который продолжал беззвучно, но крепко ругаться, главным образом — на меня, спустили трисель и прикрутили его этим самым перлинем к грота-гику. Теперь не осталось вообще никаких парусов. Яхта просто вприпрыжку неслась по волнам, как слабоумный ребенок. Это было замысловатое, изощренное издевательство над малолетним дурачком, одна шайка шпаны подбрасывала его на одеяле, другая громко орала песни, причем каждый из хулиганов пел что-то свое, а третья забрасывала его — ее, яхту, — кусками льда, которые тут же превращались в теплую воду. Ночь, как говорится, опустилась на землю. У штурвала я оставил Эспинуолла, под потоками хлещущей теплой воды, рассыпавшейся комьями яростного снега, и пошел вниз, опасаясь, как бы меня не смыло за борт.