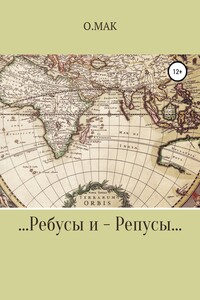Поцелуй Арлекина | страница 61
В тот же миг голова.
Запах пота и грима
И горячих опилок
Сжал ей сердце – и смутно
Прозвучали слова:
«Поцелуй арлекина!» —
Бонна ей прошептала.
Он же белую щеку
Ей подставил как раз.
И малышка зарделась,
Нежно затрепетала
И губами коснулась
Жесткой кожи тотчас.
Арлекин вдруг отпрянул,
Хохоча и кривляясь.
Среди голых красавиц
И свирепых громил
Он исчез не простившись,
Но у Нины осталась
На губах крошка грима —
Все, чем он одарил.
И в жару скарлатины,
Разметавшись в постели,
Она бредила нежно,
Как в истоме любви.
Близких не узнавала.
Куклы ей надоели.
Все звала арлекина
Из прекрасной дали.
И когда хоронили
Ее в среду, к полудню,
Город был опустевший,
Цирк уехал навек.
И она не узнала,
Как мучительны будни,
Как бесплодны надежды
И печален наш век.
Горынь
Малин, в отличие от всех украинских городов, городков и местечек, включая сюда деревни, села и хутора, не слишком зелен. Большая пыльная площадь в центре его приводит невольно на ум мысль о том, что Гоголь из своего прекрасного далека видел вовсе не фантастический город «Мертвых душ», а вполне земной и отлично ему известный Малин. Здесь ничего не менялось с тех пор. Порыв ветра, вздымая пыль, заставлял франта (если тот случится на улице) схватиться за цилиндр – а ныне за шляпу, селяне на площади продолжали неспешно обсуждать достоинства и калибры колес – пусть даже речь шла не о кибитке, а сеялке, – годовалые поросята валялись на солнце у троттуаров, и, словом, жизнь, избегнув перемен – возможно, в угоду чарам своего римского певца, – спокойно и уверенно выводила на авансцену, точно так же, как век назад, индейского петуха с его пернатым гаремом либо стайку собак, добродушных и ленивых даже в любви друг к дружке. Кривой и щуплый автовокзал сменил собой присутственное место, сгоревшее в войну от шальной бомбы, – вот и весь прогресс за полтораста лет, которым удостоил новые времена Малин.
Я оказался в нем не по своей охоте. Прошел июль, начался август, но жара не думала спадать, и только все углы улиц нашей деревни белели, точно сугробами, тополиным пухом, недвижным в застывшем от зноя воздухе. Наши встречи с Надей под кровлей пустого дома не прекратились, как я того ждал, а даже стали особенно продолжительны и страстны – боюсь, что от безысходности. Ее мы ощущали оба и избегали говорить о ней. Верно, и детвора у нас за спиной, у прогнившей щели, подметила то же, во всяком случае, соглядатаев стало меньше, а там они и вовсе исчезли. Да и мы совсем перестали думать о них. Встречались, однако, мы теперь не каждый день. У Нади все выдавались разные дела, она куда-то ездила, то в Киев, то в Любар, а раз как-то потолковала со мной и о Белой Церкви. Я хорошо знал окрестность, но ее поездки сбивали меня с толку: я не мог понять, зачем они ей. Потом вдруг все стало ясно: она разыскивала