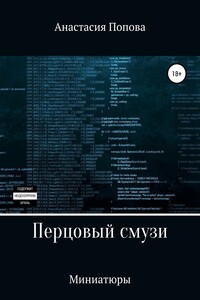Поцелуй Арлекина | страница 56
– Продолжай, – велела негромко Надя.
Хор приблизился, на миг затих, потом вдруг грянул чуть не у нас за спиной. И стал отдаляться. Минут через пять я чувствовал себя так, словно пережил шторм, что, впрочем, было близко к истине. Вся в слезах, совсем обессиленная Надя лежала на одеяле, вовсе раскинув ноги, с приоткрытым ртом и заведенными под брови глазами. Мокрые ее ресницы свалялись и липли к щекам – когда, зажмурившись, она их опускала. Июнь был изобилен смертями, и так стало повторяться каждый раз, с небольшими варьяциями. Мне было непонятно это соединение противочувствий, но я не смел мешать своей подруге. Что делать! рыцарям нужно порой мириться с прихотями своих пажей и в угоду им жертвовать своими.
Что до жертв, то все случилось именно так, когда я, по примеру многих в моих обстоятельствах, попытался узнать о ее прежних связях, особенно о первой. Вела меня, конечно, не ревность, а жгучее любопытство, сильно походившее на страсть. Но тут Надя оказалась вдруг нежданно скромна и даже стыдлива, хотя тоже это поняла. Она, впрочем, сказала, что может рассказать мне «все», но что это ей будет неприятно. Разумеется, под таким условием не согласился слушать уж я. В конце концов, я искал даже и не выход своему любопытству, это было бы просто, а – возможно, излишнее – обострение чувств: как раз то, что она находила в песнопениях погребалыциц. Я вскоре заметил с радостью, что оркестр, вопреки трагической своей бравурности, волнует ее меньше, хоть и он имел свое влияние на нее. Но от него она, по крайней мере, не рыдала, обхватив меня руками за шею, словно все еще была маленькой девочкой у песочной кручи. Словом, я скоро привык исполнять ее просьбы, забывая свои. В этом, однако, был резон: она оценила мой такт и порой стала давать мне – и себе – волю. После одного такого случая – рассказа на ухо хоть не о «всем», но о многом, перемежаемого поцелуями и приуроченного к известному мигу, я только что не расшибся, перелазя треклятый забор, а к ночи готов был вломиться к Ш… и по сю пору не знаю, как сдержал себя.
Надо сказать – справедливости ради, – что Надя не была отнюдь действительно плаксой и что смеялась она много чаще, чем рыдала. Вскоре к этому нашелся и повод, заодно избавивший меня от нужды что-нибудь вызнавать у нее. Я вдруг обнаружил, что моя хитрость – назову ее скромно фигурой умолчания – совсем не была тайной для Нади. Она, конечно, не могла слышать шуток бабушки, впрочем, беззлобных, когда я, отобедав, шел в урочный час со двора; но, как оказалось, отлично знала и даже играла на свой лад с тем, что тайна наших свиданий совсем не была тайной для соседей. Мало того, она не была тайной и для соседских детей, а там и для всей уличной детворы, для которой, понятно, забор кругом косогора был скорее вызовом, чем преградой (как, к слову сказать, и нам). Я уже прежде слышал их шорох и сопение где-то в стороне нашего изножья, у гнилой доски (подсматривать в щели они не решались, понимая, что видны нам изнутри лучше, чем мы им). Но когда мышиная эта возня уже не могла быть незаметна Наде, та вдруг призналась, что относится к ней вполне снисходительно, ничуть не смущаясь всех этих подглядываний и подслушиваний. Я даже заподозрил с ее стороны умысел и потакание, вспомнив, что одеяло обычно стелилось ею на перекрестьях лучей из – все же значительных – дыр кровли. Но мне самому была мила мысль о такой сцене и софитах. Все же, не удержавшись, я спросил, что она думает об этой склонности к laisser voir и вообще о voyeurisme infantile.