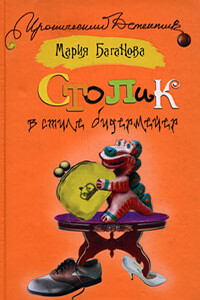Лев Толстой. Психоанализ гениального женоненавистника | страница 46
Только наше войско может стоять и побеждать при таких условиях. Надо видеть пленных французов и англичан: это молодец к молодцу, именно морально и физически, народ бравый. Казаки говорят, что даже рубить жалко; и рядом с ними надо видеть нашего какого-нибудь егеря: маленький, вшивый, сморщенный какой-то.
Лев Николаевич словно запнулся, огонь в старческих глазах погас, он вдруг весь как-то поник.
– Тогда я гордился героизмом русских, – медленно произнес он. – Это – патриотизм. Я воспитан в нем и не свободен от него, так же как не свободен от эгоизма личного, от эгоизма семейного, даже аристократического, и от патриотизма. Все эти эгоизмы живут во мне; но во мне есть сознание божественного закона, и это сознание держит везде эти эгоизмы, так что я могу не служить им. И понемногу эгоизмы эти атрофируются. – Глаза его наполнились слезами. – Теперь я плачу о тех несчастных людях, которые, забывши мудрую пословицу, что худой мир лучше доброй ссоры, десятками тысяч гибнут изо дня в день во имя непонятной им идеи. Я не читаю газет, зная, что в них описываются ужасы убийств не только не для осуждения, но для явного восхваления их… Но домашние иногда читают мне, и я плачу… Не могу не плакать… Хотя до сих пор в глубине души моей я не чувствую себя вполне свободным от патриотизма. Вследствие атавизма, воспитания я чувствую, что вопреки моей воле он еще сидит во мне. Мне нужно призвать на помощь разум, вспомнить высшие обязанности, и тогда я без всякой оговорки ставлю выше всего интересы человечества. Да, мое сознание говорит мне, что убийство, в какой бы форме оно ни проявилось, каким бы поводом ни прикрывалось, всегда отвратительно. Что война есть чудовищный бич, и все, что подготовляет ее, подлежит осуждению.
И он действительно расплакался. Я понял, что все его мысли неизменно оборачиваются тоской и отчаянием. Я не мог не отметить, что его поведение, равно как и все его откровения, вполне укладываются в описание эпилептоидного характера: периоды крайнего возбуждения чередуются с периодами депрессии. Лучше всего больному было бы уснуть, но сейчас сон бы вряд ли пришел к нему.
– Я вам все-таки почитаю, – предложил я и, пройдя к книжному шкафчику, вытащил нужный томик. Это были как раз рассказы, о которых мы только что говорили, я быстро пробежал глазами пару страниц: «Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собой: вечные, неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи, вы или я. Коли бы мы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне, вместо моей хаты, моего леса и моей любви, эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это, – мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти усаживания и пересаживания, это наглое сводничанье пар, и эта вечная сплетня, притворство; эти правила – кому руку, кому кивок, кому разговор, и, наконец, эта вечная скука, в крови переходящая от поколения к поколению (и все сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно и поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желания счастья и за меня, и за себя. Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней».