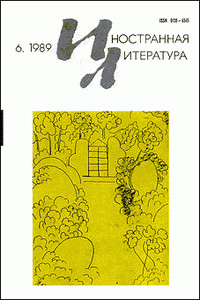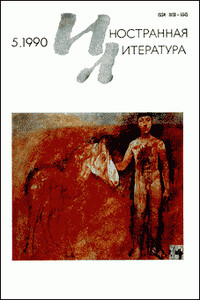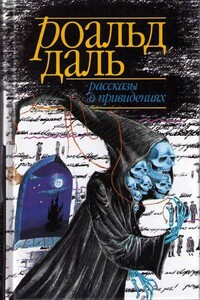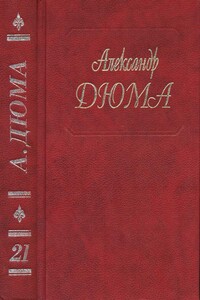Урок немецкого | страница 9
И только в мастерских не замерла и не сникла жизнь: поскольку нас хотят ознакомить с преимуществами труда и даже открыли в труде некое воспитательное начало, тишине здесь объявлена война: жужжание динамо на электростанции, грохотание молотов в кузнице, яростный визг рубанков в столярной, перестук молотков и царапание скребков в веничной мастерской не прекращаются ни на минуту, и этот неумолчный шум заставляет забыть о зиме, а мне он напоминает о стоящей передо мной задаче. Пора начинать.
Опрятный старый стол испещрен потемневшими щербинами, исчерчен инициалами и памятными датами, говорящими о минутах озлобления, надежды, но также и строптивости. Передо мной открытая тетрадь, готовая запечатлеть мою штрафную работу. Мне больше нельзя уклоняться, пора начинать, пора повернуть ключ в замке и наконец отомкнуть несгораемый шкаф воспоминаний, чтобы достать оттуда то, что отвечает требованиям Корбюна — выявить радости исполненного долга, проследить их воздействие, которое упирается в меня самого, — и все это без помех, в порядке наказания, которое будет длиться, покуда я не докажу, что усвоил преподанный мне урок. Что ж, я готов. И так как мне предстоит продвигаться вперед, сперва надобно вернуться назад, произвести отбор и подыскать место действия — быть может, все же ругбюльский полицейский пост или даже всю Шлезвиг-Голыптейнскую равнину между Глюзерупом, Хузумским шоссе и дамбой, эту местность, которая пересечена для меня единственной дорогой — на Блеекенварф. И даже если придется растолкать дремлющее прошлое, неважно: пора начинать.
Итак, к делу.
Глава II
Запрещение писать картины
В сорок третьем году, если начать с этого, в одну из апрельских пятниц, утром или ближе к полдню, отец мой Йенс Оле Йепсен, полицейский ругбюльского участка — самый северный шлезвиг-гольштейнский полицейский пост — готовился к служебной поездке в Блеекенварф, чтобы вручить художнику Максу Людвигу Нансену, которого у нас называли не иначе, как художник, и никогда не переставали так называть, полученный из Берлина приказ, запрещавший ему писать картины. Не торопясь собирал отец накидку, полевой бинокль, портупею, карманный фонарик и подолгу медлил у письменного стола; он уже вторично застегнул мундир, то и дело посматривая в окно на незадавшийся весенний день и прислушиваясь к завыванию ветра, между тем как я, укутанный с головой, неподвижно стоял и ждал его. Но ветер не только бушевал: норд-вест обрушил свои яростные набеги на дворы, на живые изгороди и высаженные ряды деревьев; испытывая суматошным буйством их устойчивость, он создавал свой собственный, пронизанный ветром черный пейзаж, перекошенный и растерзанный, исполненный неизъяснимого значения. Этот наш ветер, хочу я сказать, наделял крыши вещим слухом, а деревья — пророческим даром, старая мельница вырастала под его порывами, а низко метя над рвами, он вселял в них несбыточные мечты или же, набрасываясь на торфяные баржи, расхищал их беспорядочный груз.