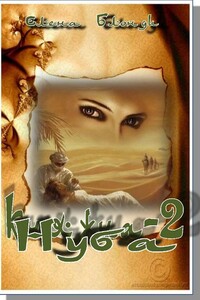Татуиро (Serpentes) | страница 21
Мастер провел ножом по камню последний раз. Солнце уже не резало крышу лучами, ушло за тучи, хотя день ещё не пришёл к своей середине. Но это и правильно, ведь надвигаются большие дожди. Чиркнув кресалом, он выбил огонь, искрой зажёг приготовленные в светильниках фитили. По хижине заплясали черные тени. Мастер расставил плошки так, чтоб свет не убегал в стороны от обнажённого плеча со змеей и, встав на колени, нагнулся над лежащей:
— Длинный крик пёстрого дятла или одна песня соловья — и всё, Подарок моря, всё кончится. Прости меня за то, что лицо твоё прикрыто, но сила в тебе может наделать бед. Вот мой нож, вот твоё плечо. А Большая Мать и Большой Охотник знают, я им сказал, а что не сказал, они увидели в моей голове и в моём сердце.
Похлопал её по плечу, давая понять, где он и его руки. Приложил нож и резким плавным движением выкроил на белой коже овал, заключив в него рисунок. Замер на секунду, прислушиваясь к тому, что делается вокруг — вдруг река, или лес, или вообще всё вывернется наизнанку и сползёт в пропасть тьмы, как глинистый берег, подмытый дождями.
Но за стенами было тихо. Так тихо, что и непонятно, а есть ли там что-то? Может, ничего не осталось, и только темнота, а в ней старая деревянная хижина с растрёпанной крышей?
Очерчивая вырезанный овал, побежали вдоль линии чёрные капли крови, длинные и короткие, слились местами в рисунок — деревья, змеи, люди с головами, как у зверей. Мастер поддел ножом, ухватил пальцами лоскуток кожи и, подводя нож под неё, рванул, покачивая и подрезая.
Из тишины родился рокот, не с неба, а будто со всех сторон, и далеко в деревне испуганно закричали женщины. Снова стихло всё, прихлопнутое тишиной ужаса. Мастер перевёл дыхание и скривился от щекотки — струйки пота бежали по лицу. Мокрой от пота рукой сжал край лоскута, почти отделённого от плеча, и потянул, надсекая ножом вытянувшуюся кожу. Откачнулся, когда нож, прорезав остаток, нырнул в пустой воздух.
И закричал. Внезапная боль впилась в его плечо, двигаясь по окружности, заставляя пережить то, что пережила только что она, лежащая неподвижно по его воле. Зажмурившись, видел, как появляется на его плече неровная окружность и вытекают из разреза струйки, кивая круглыми головками. Кричал, потому что, собравшись в узел, боль ушла в глубину, в красное, открытое им мясо плеча, прогрызлась к сердцу, упала туда и стала ворочаться, устраиваясь, скаля окровавленные зубы. Кричал, потому что перед зажмуренными глазами пошли чередой, как большие тяжкие слоны, картинки того, чего никогда не видел и не знал: белые стены, люди со множеством острых ножей и блестящих крючков в руках, с закрытыми лицами, иглы на концах прозрачных узких сосудов… блестящие звери со свёрнутыми в чёрные улитки ногами… ящички из чёрного и цветного дерева, украшенные снова блестящими штуками и глазами… а из них кто-то кричит и гремит… нож, упавший со стуком на гладкую поверхность, другой нож, распахивающий крылья, как богомол… Детский крик, женский плач и страшное горе, рвущее внутренности. Полный рот напитка, убегающего в желудок, а оттуда сразу в голову, как делает это свежее пиво. А потом — морская вода во рту, речная вода во рту, в горле, и снова детский плач. И прицепленное к нему пиявкой огромное горе…