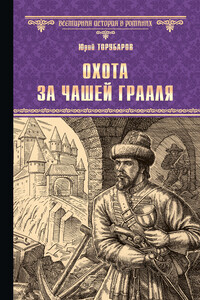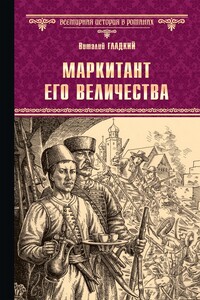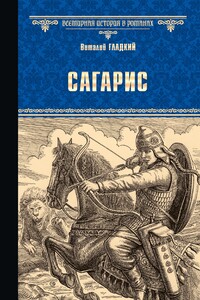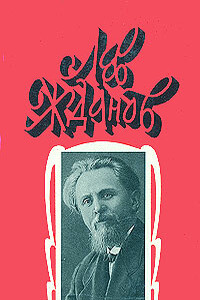Гетера Лаиса | страница 2
В тот день, желая уклониться от оваций, когда он был в Парфеноне в числе зрителей при конце Дионисий, Конон вынужден был искать убежище в храме Победы. Его сопровождал скульптор Гиппарх, его товарищ с юношеских лет. Теперь оба друга с наступлением ночи направлялись к Афинам.
— Лаиса была очень красива сегодня, — сказал Конон. — Она должно быть так же богата., как красива: содержать столько носильщиков…
— Она и в самом деле богата, — отвечал Гиппарх. — Ее присутствие на празднествах удивляет меня. Она бывает на них так редко. Во-первых, потому, что выходит только после десяти часов: ее белая кожа боится яркого солнца. Потом культ богов привлекает ее меньше, чем общество тех умных и талантливых людей, которым она открывает свой дом.
— Ты бываешь у нее?
— Нет. Один раз она приглашала меня к себе посмотреть древнюю статую, привезенную с Крита. Я тогда только что женился: Ренайя, по-видимому, была недовольна; мне самому не хотелось идти к ней и я остался дома.
— Это правда: ты один из тех редких афинян, которые любят тишину гинекея[5] и отказываются от развлечений вне дома. Я знаю даже, что Каллиас, наш старинный товарищ, считает тебя за одержимого священным недугом.
— Пусть он считает меня кем хочет, — отвечал Гиппарх с раздражением, — но пусть оставит меня в покое, а, главное, пусть не жалеет меня. Мне не принесло бы счастья, если бы я, подобно ему, занимался составлением новых румян для поблекших щек стареющих вдовушек. Я живу моей женой, моим сыном и моими статуями. Любовь к ним наполняет всю мою жизнь. Я сам хотел такой жизни и лучшего ничего не желаю, уверяю тебя, потому что мне такая именно и нравится — тихая, трудовая жизнь, полная семейных радостей…