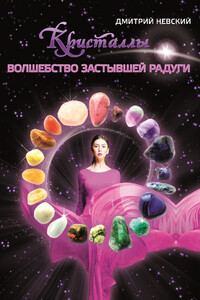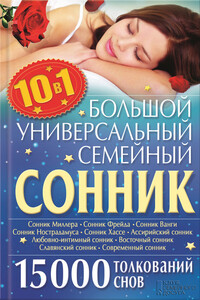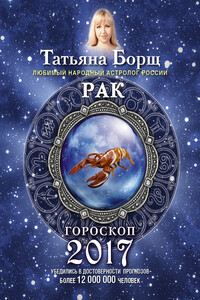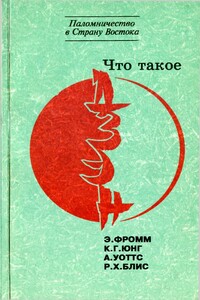Секреты мироздания | страница 86
Но на самом деле опыт истории пропадал даром для человечества, и оно продолжает и до сих пор искать истины непременно направо или налево. Прямой путь, который, по-видимому, должен быть признан кратчайшим расстоянием ко всякой цели, казался большинству людей всегда наиболее подозрительным и опасным. По этому прямому пути шли несомненно гениальные мыслители древнего и нового времени, но за ними следовали лишь немногие из обыкновенных смертных…
Все эти соображения особенно приложимы к занимающему нас вопросу «о природе души».
Нельзя сказать, чтобы этот вопрос никем не ставился с достаточною широтою и не разрешался именно в духе упомянутого выше примирения требований мысли и высших идеальных стремлений человеческой природы. Напротив, во все почти века можно указать на мыслителей (Платон, Аристотель, Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант и др.), обсуждавших проблему о душе столь разносторонне, что и в настоящее время их исследования могли бы считаться поучительными. Но этих мыслителей общество не хотело слушать и понимать, и вскоре их глубокие учения забывались…
Масса человеческая охотнее шла за теми второразрядными умами, которые предлагали ей крайние решения проблемы (мистическое и материалистическое), и мысль человеческая продолжает увлекаться и поныне учениями наиболее поверхностными и наивными» (курсив наш. — А. С.). В России в каждую эпоху «царит и властвует одно направление, пока вновь не одолеет противоположное, — и горе тому, кто пойдет против господствующего течения, даже в качестве миротворца…
Вопрос о душе разделял у нас, конечно, судьбу всех вопросов, занимавших общественную мысль. Все мы хорошо помним, как в 60-х и в начале 70-х годов значительная часть нашего общества, и в особенности молодежь, увлекалась крайними материалистическими воззрениями, которые приводились Малешоттом в его «Круговороте жизни», Карлом Фохтом в «Физиологических письмах», Бюхнером в сочинении «Сила и материя», игравшем роль своего рода катехизиса нового направления, наконец, Геккелем, стремившемся в многочисленных биологических сочинениях своих совершить синтез немецкой материалистической доктрины с учением Дарвина. Всем также памятно, конечно, в какой моде было у нас еще Фохтовское сравнение мысли, как отделения мозга, — с желчью, как отделением печени, и какие разнообразные применения находил у нас материализм не только в литературе, но и в жизни, начиная от направления художественной критики в оценке произведений гениальных поэтов и кончая грубым поклонением толпы золотому тельцу.