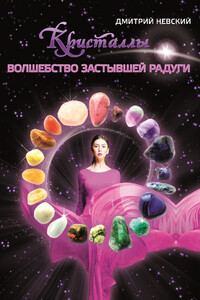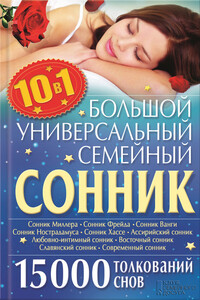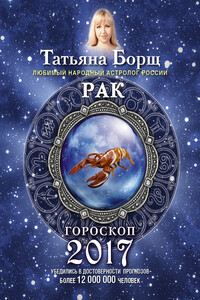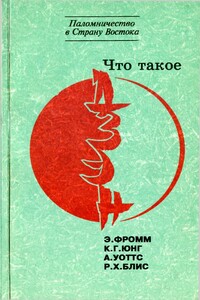Секреты мироздания | страница 85
Особый интерес представляют дуалистические взгляды Грота на мир, изложенные им в 1886–1898 гг. Так, в работе «О душе в связи с современным учением о силе» он делает попытку обосновать такое нравственное мировоззрение, которое на основе естественнонаучных учений о силе, о законе сохранения энергии, о природе восстановило бы нравственные идеи добра, долга, свободы воли и т. д.
«История человеческой мысли и жизни, — пишет в ней Грот, — учит нас, что утверждение или отрицание существования души в человеке всегда налагало печать на все миросозерцание человечества, на весь склад его идей, чувств, стремлений и действий. И это понятно: признание духовного начала в основе своего собственного бытия давало человеку возможность логически оправдать существование высшего духовного начала… убеждение в действительном значении идей добра и зла, нравственного и безнравственного, веру в прекрасное, в идеалы справедливости и высшего духовного совершенствования. Но зато, как скоро наоборот, вопрос о существовании души решался отрицательно, то весь мир идеальных понятий человеческого сознания превращался в одну сплошную игру воображения, в мир иллюзий и праздных выдумок поэтов и философов, поощряемых «трусливым суеверием» толпы. Если нет души в человеке… а во Вселенной нет Высшего Разума, то не может быть в ее существовании и развитии высших разумных целей и внутреннего нравственного смысла; если же все совершающееся есть игра слепой необходимости и продукт прихотливого столкновения случайностей, то неоткуда приобрести критерии и для нравственной деятельности человека».
Должно быть ясно для каждого, что решение вопроса о существовании души в человеке «это не только вопрос праздного ученого любопытства: это — проблема, затрагивающая самые дорогие, самые священные и близкие для человеческого сердца «интересы жизни».
От него человеческая мысль неизбежно восходит и к высшим вопросам о природе и законах бытия Вселенной, от него же она нисходит и к решению самых мелких, но все же важных «вопросиков» повседневной жизни. Мы смело, — говорит Грот, — назовем его центральным вопросом знания, связанным бесконечно разнообразными и часто неуловимыми нитями со всеми остальными вопросами мысли, которым он и дает ту или другую степень жизненности…
Казалось бы, одно то соображение, что все крайние мнения всегда существовали совместно или быстро сменяли друг друга, а после снова возвращались, могло бы заставить нас предположить, что истина состоит в примирении и объединении противоположных идей, из которых каждая представляет сама по себе только известную часть ее.