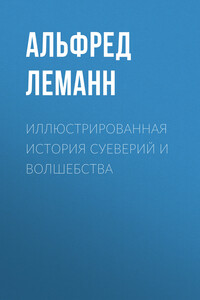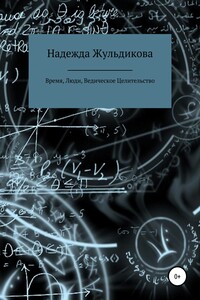Секреты мироздания | страница 22
Нравственная сторона дарвинизма наполовину представляет обобщение мальтузианства. Последний [Мальтус] желал, чтобы размножение, расширение и усиление власти высших и средних классов совершалось беспрепятственно со стороны низших, необеспеченных слоев, и его практическая программа стремилась подавить жизнь в одном направлении, чтобы в другом сделать ее еще сильнее и обеспеченнее. Сильнейший, по его теории, должен сделаться еще сильнее, а слабый подпасть еще большим стеснениям.
Из этого мальтузианского закона размножения и мальтузианской формы представления соперничества за существование Дарвин, прежде всего, сделал общий зоологический закон, а затем теорию, которая в человеческих отношениях выдвинула на первый план так называемое право сильного и провозгласила его культурно-историческим орудием прогресса. Если в этом последнем отношении у Дарвина были кое-какие недомолвки, то все они получили в руках его второстепенных последователей, в особенности в Германии, ясное для каждого толкование. При этом все политически и общественно-реакционные условия получили самое выгодное для себя освещение, так что для каждого стало совершенно ясно, что теория борьбы за существование способна оправдать не только всякую нравственную испорченность, но и дать деятельную поддержку реакционным стремлениям всякого рода. Ее главное качество, заставившее нас остановиться подробнее на этом предмете, заключается в ее близости ко всем началам бесчеловечности, уменьшающим ценность жизни, возбуждающим презрение человека к человеку и к более благородным формам существования. Судьба дарвинизма та же, что и мальтузианства, и уже недалеко то время, когда историк нравов упомянет о нем, как о позорной странице в развитии человеческой мысли».
Рассуждая о происхождении жизни, Дюринг писал:
«Было бы полнейшим непониманием дела желать отыскать нечто, похожее на зародыши жизни вне самой области жизни, т. е. для нашей планеты во всем другом, кроме человека, животного и растения. Хотя и является более утонченным, тем не менее все-таки решительным суеверием предполагать, что из простых физических, химических и т. п. сил могла бы возникнуть жизнь на Земле. Если бы на нашей планете были уничтожены все отдельные живые существа, то вместе с ними иссякла бы навсегда и жизнь (курсив наш. — А. С.). Вновь не явилось бы ничего, раз ниоткуда со стороны не присоединились бы новые семена живых элементов. Даже для предшествовавших природе времен мы не имеем оснований допустить самозарождение в том смысле, что из общей материи, то есть из физических, химических и т. п. сил без зародыша, содержащегося в определенных частях материи, может возникнуть живое существо. Было бы даже логическим противоречием — утверждать, что безжизненное в состоянии произвести из себя живое. Размножение, очевидно, не есть единственно возможный способ возникновения живого, но самозарождение, откуда бы оно ни происходило, в смысле первоначального возникновения живого из неживого, представляется логическим противоречием.