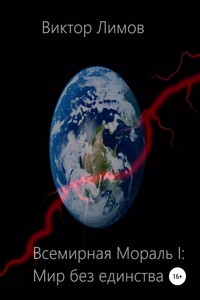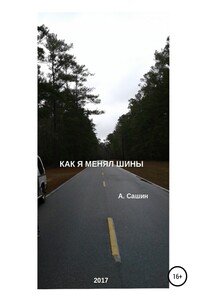Страна Изобилия | страница 56
А можно было метить еще выше, особенно с тех пор, как Сталин начал чистки, в результате которых были убраны все старые большевики, что открыло честолюбивым дорогу к любой должности, кроме его собственной. Человек мог прийти на текстильный комбинат мастером в 1935-м и спустя четыре года стать народным комиссаром всей текстильной промышленности — таков, например, был сказочный взлет Алексея Николаевича Косыгина, который еще появится в нашем повествовании. Бывший шахтер, обладавший талантом к болтовне и умевший расположить к себе Сталина своей безобидностью, мог за два года превратиться из полуграмотного аппаратчика в заместителя первого секретаря Московского горкома партии. Таков был путь к вершине Никиты Хрущева. Можно было стать председателем горсовета в двадцать пять, а в тридцать — министром СССР; а потом, в тридцать два, если не повезет или оступишься, покойником, а может, заключенным на никелевой шахте, соскользнув с верхушки советской лестницы к самому ее низу, самым длинным путем. Однако, если забыть о подобных неудачах, жизнь наверху была весьма неплоха, зарплата в 20–30 раз превышала заработки в цеху — шкала вознаграждений шла вверх не менее круто, чем прибыли любого управленца при капитализме. Будет и машина, и повар, и домработница, и меховая шуба, которую мадам Красное Изобилие сможет носить, когда ударят морозы. Будет и дача за городом, с веранды которой обласканные граждане смогут созерцать новый мир, растущий там, внизу.
А он действительно рос. Так было задумано. Рыночная экономика “задумана”, если к ней вообще применимо это слово, как средство достижения соответствия между покупателями и продавцами — так диктуют ее институции, ее законы. Она растет, но только если продавцы, оценив энтузиазм покупателей, решают произвести немного больше того, что продают, или если покупатели решают использовать то, что купили, для продажи чего-то другого. Рост не является ее неотъемлемой частью. Рыночной экономике не присуща необходимость производить каждый год немного больше, чем в прошлом году. Плановая экономика, напротив, была создана именно для этого. Это был механизм, задуманный для осуществления перехода от нехватки к изобилию путем увеличения производства — каждый год, неуклонно, год за годом. Все остальное не имело значения: ни прибыли, ни количество несчастных случаев на производстве, ни влияние фабрик на землю и воздух. Успех плановой экономики измерялся количеством производимых ей осязаемых вещей. Деньги воспринимались как нечто второстепенное — средство для ведения бухгалтерии, только и всего. По сути, тут имелся философский вопрос, точка зрения, относительно которой советским плановикам важно было знать, что они неуклонно следуют учению Маркса, пусть их послереволюционный мири разошелся с его по большинству пунктов. Их система производила ценности для пользования, а не ценности для обмена осязаемые человеческие блага, а не призрачную идею стоимости, в условиях рынка превратившейся в нечто независимое и могущественное. Когда общество производит меньше, чем способно, потому что люди не могут “позволить себе” добавочную продукцию, это глупо. Подсчитывая настоящее мешки цемента, а не иллюзорные наличные, советская экономика выступала за реальность, за материальный мир — такой, как он есть в действительности, а не за идеологическую галлюцинацию. Она придерживалась простой истины: больше товаров — это лучше, чем меньше. Вместо того чтобы подсчитывать валовой национальный продукт, сумму всех доходов, заработанных в стране, в СССР подсчитывали чистый материальный продукт, общее производство товаров выражаемое для удобства в рублях.