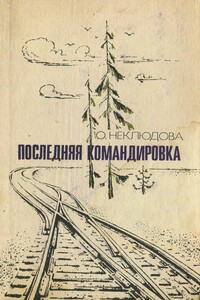Крестьянин и тинейджер | страница 49
— …Тогда зачем ты позвала меня?
— Ты сам приехал.
— Нет, ты звала, я это в себе слышал.
— Ну, хорошо, звала. Любила потому что. И благодарной я тебе была за те две недели. Ты мало разговаривал со мной тогда, но я тогда себя раскрыла и поняла. Стала собой.
— Ты правду говоришь?
— Я стала взрослой и свободной благодаря моей любви к тебе. Свободной даже от тебя… Но не от твоего театра. Я буду с ним, пока ты не прогонишь. Я верю в твой театр.
— В этот амбар, который ты устроила вдали от всех дорог?
— В амбар, который ты устроил в своей голове.
— Тогда не понимаю. Чем я-то тебя не устраиваю?
— Ты как сомнамбула, Егор. Ты принимаешь все как есть, даже сейчас. Нельзя сказать: ты равнодушен ко всему, но ты всему покорен. Жизнь так жизнь. Смерть так смерть… Что будет, то и будет. Тебе все время нужен поводырь. Я остаюсь твоим поводырем — но я с тобой не остаюсь.
— Я фаталист, тут ты права… Ну что ж, прощай, моя любовь; авось привыкну.
— «Авось» и «фатум», милый, — не синонимы.
…Казалось Шабашову, будто холод, поднявшийся от вымокших ботинок по ногам, вчистую выел тело; и что не он уже стоит, как тать, в ночи и слушает усевшихся на иву — одна лишь его кожа, наполненная стылой пустотой. Никогда он не бывал так легок, и легкость никогда еще такой безрадостной и грустной не была. Не в силах повернуться и уйти, и даже шевельнуться, как если бы малейшее движение рассыпало его пустую оболочку, вслед каждому услышанному слову, что уплывало, прозвучав, во тьму, он с грустью посылал, прощаясь с ними навсегда, как с посторонним и ненужным шумом, остатки своих помыслов о Фимочке. Он понимал, что нужно уходить, но мысль о том, куда и как идти, как дальше двигаться, дышать, курить, играть, разогревать и есть еду, и разговаривать, и спать, и просыпаться вновь, была невыносимой, и, словно прячась от нее, он продолжал стоять, как полый легкий камень.
— …Хочу тебе признаться напоследок. Должно быть, ты не знаешь, зачем я взялся ставить и поставил в Сан-Франциско «Бег». Я сам не понимал, я эту пьесу не люблю, и понял вдруг, когда уже летел к тебе на самолете. Из-за Корзухиной, вернее, из-за имени ее… А где еще я в Сан-Франциско мог бы услышать имя «Серафима»? И где еще я мог им там наслушаться?
— Ты мне об этом, милый, говорил уже.
— Что, правда? Быть того не может.
— Говорил, и не раз. Ты очень любишь эту историю.
— И ты мне верила, когда я говорил?
— И верила, и верю.
— Как хорошо. Как это хорошо.
Они ушли: сначала — Серафима, потом, помедлив и в одиночестве немного ивой поскрипев, ушел Мовчун. Пора и мне, подумал Шабашов и осторожно, будто пробуя на прочность каждый свой сустав, тронулся с места. Поля, которые опять утюжил жесткий ветер, остались ныть под ветром за спиной.