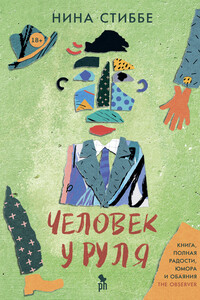Крестьянин и тинейджер | страница 45
«Такое представление я не променял бы на пенсию в тысячу золотых от самого персидского шаха!» — сказал Фабиан, и зал с ним согласился, зааплодировав и долго не желая, в ущерб расчисленному ходу действия, прервать аплодисменты.
До следующего выхода Мальволио, до сцены с желтыми чулками в третьем акте, не менее чем прежний выход чреватой и триумфом, и провалом, Шекспир дал Шабашову слишком долгий перерыв, чтобы он мог без затруднений удержать в себе радость. Быть радостным и вновь не заскучать мешала неразгаданность того, как Серафима оказалась на свободе. Недоумение его, опять же, разрешил Парфенов, убедительно предположив, что Серафима вовсе не была на мюзикле.
— Я одного не понимаю, — сказал Парфенов, прежде чем выйти на сцену в роли Себастьяна. — Сказала, что идет в театр, сама пошла к мужику, бывает. Зачем его потом сюда тащить?
Вот еще бестолочь, скучая, думал Шабашов, а что ей было делать? Узнала про захват, представила, что тут Мовчун себе представил, пришла сдаваться.
— Ах, Фимочка, — сказал он вслух, словно прощаясь, и вдруг спросил себя, зачем Мовчун его и никого другого поставил на замену Серебрянскому. Повязанные крест-накрест желтые чулки были малы, не доходили до колен, между подвязками и краем панталон осталась незакрытой полоска белой, с волосами, голени: что ж, так Мальволио и надо; но если кто учуял, что я испытываю к Фимочке: Линяев иль, верней всего, Охрипьева, унюхали, подслушали меня и нашептали Мовчуну — тогда, пожалуй, он решил одеть меня в эти потешные чулки, чтоб посмеяться надо мной… Ну что же, обратился к нему в мыслях Шабашов, высокомерно выступая в желтых чулках на сцену, пусть я смешон, но такова моя работа. А каково сейчас тебе?.. Тут ему стало горько, стыдно стало; он сбился с роли, и сцена с желтыми чулками, в которой одураченный насмешниками и презираемый Оливией Мальволио ведет себя как подлинный ее избранник, не заслужила одобрения зала.
Когда спектакль кончился и зазвучали скрипочки прощальной тарантеллы, костюм Мальволио лопнул, наконец, по швам. И трижды выйдя на поклоны, Шабашов так и не смог понять, чему зал дружно хлопает в такт тарантелле — его игре иль порванным штанам. Как только скрипочки в динамиках умолкли, аплодисменты начали стихать, поклоны кончились — он поспешил переодеться. Расправил грудь, доселе стиснутую тесной вышитой жилеткой, и сразу вспомнил, как давно он не курил. Из зала слышался еще стук кресел, топот и разговоры. В карманах брюк и куртки не нашлось и крошки табака, стрелять сигареты у актеров он запретил себе давно, и потому решился выйти в зал в надежде встретить хоть кого из курящих знакомых. Там он приметил: край, где Фимочка сидела, был уже пуст; у выхода в фойе столкнулся со знакомым сценаристом; тот, приобняв, поздравил с ролью, но огорчил: полгода как не курит. В фойе был гул и толкотня людей. Курящие спешили, обгоняя прочих, выйти в парк. Пресс-атташе «Севптицебанка» Вендин в ответ на просьбу Шабашова с готовностью открыл коробку «Данхилла». Взяв сигарету, Шабашов увидел впереди, в толпе у самой двери в парк, троих. То были: Серафима, импресарио, Мовчун. Они шли слишком медленно, словно во сне, задерживая всех. И Шабашов совсем некстати вспомнил Селезни: так мужики выходят из парилки — идут, будто плывут, не видя никого вокруг, лица блаженные… Ревниво он вообразил блаженство и на лицах Серафимы, Мовчуна и импресарио, но страх за Фимочку быстро покончил с глупым мороком.