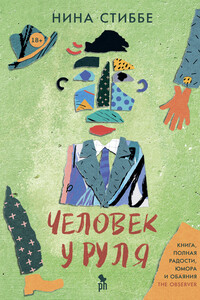Крестьянин и тинейджер | страница 44
Оливия отправила Мальволио спровадить прочь неведомого гостя — и Шабашов покинул сцену.
Влетел в гримерку, там увидел Парфенова с Охрипьевой в костюмах Себастьяна и Виолы. В ушах Парфенова, как мухи, чернели радионаушники; казалось, он заткнул наушниками слух, чтоб не следить за ходом действия на сцене, звучащего негромко из динамика в углу.
— Фимочку видели? — с разбегу крикнул Шабашов, впервые выпустив на волю потаенное свое словечко «Фимочка». — Здесь, во втором ряду, живая, и спектакль смотрит! Все обошлось, — а что я говорил? Что я говорил?.. Но как они сумели?
— Что обошлось? — не понял Парфенов и даже вынул черные затычки из ушей. Охрипьева молчала, поправляя грим перед единственным на всех настенным зеркалом.
— Ах, ты вчера здесь не был!.. — и Шабашов призвал Охрипьеву: — Ты отвлекись; ты что, ему не рассказала о Серафиме?
— Ничто не обошлось, — отозвалась Охрипьева.
— Там все по-прежнему, — сказал, поняв, Парфенов. — Передают, что Аушев и Примаков сейчас пытаются их уломать. Иващенко-продюсер говорит, что дети, те, что были заняты в спектакле, не отпущены… И не двенадцать их, он говорит, а двадцать… Я Серафиму видел, Дед. Я с ней, вернее, с ними, сюда ехал…
В динамике в углу зашелестела реплика Шута: «Нет, мадонна, пока что он еще только спятил…».
— Дед, торопись, тебе опять на выход, — прикрикнула Охрипьева, и Шабашов не опоздал; вслед за Шутом беззвучно повторяя: «… придется дураку присмотреть за сумасшедшим», — он выбежал, в последний миг остепенив свой шаг, на сцену и, слов своих не слыша из-за гула в голове, умело начал: «Сударыня, этот молодой человек хочет видеть вас во что бы то ни стало».
Еще перед спектаклем, с трудом влезая в слишком узкий и короткий для него костюм Мальволио, он уговаривал себя не психовать в преддверии пятой сцены второго акта. Спектакль без осложнений приближался к ней — и Шабашов ничуть не волновался. Сложив из фраз, добытых у Парфенова во время коротких отлучек со сцены, неполную, но внятную картину возвращения Серафимы, он заскучал. Ему нисколько не хотелось думать об этом импресарио в зеленом твиде. Им понемногу овладело отупение. И потому в начале сцены, в которой всякого актера, играющего роль Мальволио, ждет, по таланту и судьбе, триумф или провал, он был туп до того, что мог и провалиться. «Это зависит от удачи. Все зависит от удачи…» — он это произнес, едва вошел, так равнодушно, так бесстрастно и бесцветно, что сам услышал: зал его не слышит. Собрался с духом и продолжил — громко и, как мог, отчетливо: «Мария как-то сказала мне, будто я нравлюсь графине, да и сама графиня однажды намекнула, что, влюбись она, так обязательно в человека вроде меня…». Реплика сэра Тоби, произнесенная влажным басом Селезнюка: «Вот самоуверенная скотина!» — немного развлекла его, а Фабиан, что подхватил ее фальцетом Иванова: «Тише! Он размечтался и стал вылитый индюк…», потом сэр Эндрью в исполнении Линяева, у которого чесались руки, чтобы намять Мальволио бока, — вернули его к жизни. «Стать графом Мальволио!» — уже уверенно и не рискуя больше провалиться, сказал он, возвращаясь к радости; и дальше все пошло на радость залу: мечты Мальволио о том, как он женат, как он сидит под балдахином, и призывает слуг, и распекает с властной, ласковой улыбкой пропойцу сэра Тоби; и вот нашел поддельное письмо с признанием Оливии в любви и убедился, что его мечты о балдахине — уже и не мечты, а самый настоящий балдахин; и улыбаться ей пообещал, загадочным быть, грубым, носить всегда теперь подвязанные крест-накрест желтые чулки: «Примите мою благодарность, боги! Я буду улыбаться, я сделаю все, что ты пожелаешь!».