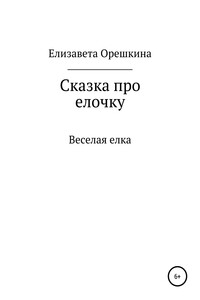Пейзаж с эвкалиптами | страница 32
И что удивительного, если третье поколение, вроде бы одинаковое внешне — уродливыми японскими «момпэ»[9] вначале, а потом — золотыми звездочками Союза советской молодежи, в тот последний день существования русского Харбина, когда он, как корабль, отживший свои сроки, стал тонуть, расколовшись на две половинки, выбирало один из двух взаимоисключающих путей, не по зрелому размышлению своего времени, а по тому, подспудно в семьях сложившемуся понятию «возвращения» — в Советский Союз или в Австралию…
И теперь в городе Сиднее живет где-то старинный друг Сашка Семушкин, мальчишка с одной улицы, свидетель и участник того доброго и горького, что было у нее с Юркой.
А в Брисбене живет мальчик, теперь, как и она, пятидесятилетний, в которого она была влюблена когда-то, именно влюблена, а не любила, как Юрку.
Разные периоды взлетов проходит жизнь, и взметнулось это однажды таким яростным и внезапным горением! А может быть, это и было началом настоящего, а не та источающая душу полудружба, полулюбовь, пять лет сплетавшая их с Юркой?
— Хочешь увидеть Ильюшу Фролова? — спрашивали ее тети. — Это совсем недалеко, в Юранге, и можно позвонить по телефону. В прошлом году на Рождество мы видели его в церкви, он спрашивал о тебе и передавал привет, и мы сказали, что, может быть, ты приедешь…
Нет, что-то мешало ей снять трубку и позвонить, словно она боялась утратить в себе нечто прекрасное…
…Осень в Харбине. Золотая: прославленная, дальневосточная. Неподвижно в чистом небе стоят желтые тополя. Листопадом устланы булыжные мостовые улицы Садовой, по которой можно бежать напрямик от института до Комитета. Сухим шорохом отдается под ногами листва, когда идешь вечером по темному городу с занятий политсеминара и стучат рядом по тротуару сапоги Ильюшки Фролова. Нет, наверное, большего счастья, чем вот так идти, чтобы стучали рядом шаги, даже в чужом китайском городе, который для тебя только временное ожидание, а впереди, несомненно, — Родина.
Сапоги Ильюшка носил в ту зиму почему-то рыжие, трофейного образца, хотя давно уже миновали послевоенные годы, или это были сапоги старшего брата, убитого под Чэнгаузом[10] в сорок шестом, при нелепо мальчишеской, но все-таки защите города? Как бы то ни было, они именно делали его походку четкой и мужественной, и сам он был весь вытянутый, как струна. Рыжая взъерошенная прядь падала ему на глаза, огненно вспыхивая в просветах уличных фонарей, и он откидывал ее со лба каким-то своевольным движением.