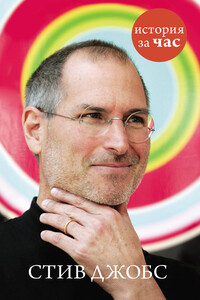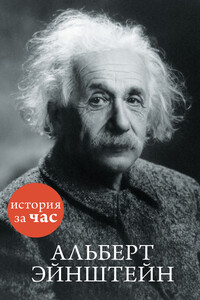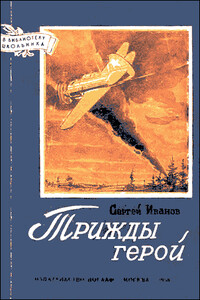Отпечаток перстня | страница 52
Воздав должное Блейлеру за то, что в этот метапринцип он возвел именно память и, подобно Катону с его Карфагеном, не уставал повторять, что «все психические явления доступны исследованию, если выводить их из памяти», мы расстанемся с создателями универсальных принципов. Герингу, Земону, Блейлеру и их единомышленникам удалось объяснить при помощи памяти очень многие явления в эволюции природы. Они оказали благотворное воздействие на представителей самых разнообразных наук, например, физики и химии, заставив их взглянуть на вещи пошире и научив смелым и непредвзятым аналогиям. Но одного им не удалось объяснить – сущности самой памяти. Таков удел большинства аналогий: при уподоблении двух явлений друг другу одно неизбежно начинает играть служебную роль и волей-неволей остается в тени. Что узнаем мы о памяти, если согласимся признать ее у сплава? Ничего ровным счетом. Мы скорее поймем секрет этого сплава. Но сплавы нас больше не интересуют.
КОРОЛИ И КАПУСТА
Р
ибо, не избежавший влияния Геринга, сказал, что память это, по существу, биологический факт, а психологическим он стал случайно. Ни одному человеку, знакомому с историей собственного вида, не придет в голову оспаривать это утверждение. И, однако, лишь изучение этой «случайности» приближает исследователей к пониманию как психологической, так и общебиологической сущности памяти, что и блестяще продемонстрировал сам Рибо в своей классической работе «Память в ее нормальном и болезненном состоянии».
Покуда психология не выделилась из философии в самостоятельную науку, упомянутой «случайностью» интересовались действительно от случая к случаю, а главное, редко считали ее достойной пристального внимания. Декарт, например, относился к памяти с недоверием и в решении научных задач советовал полагаться не на нее, а на интуицию, то есть на непосредственное усмотрение. Спиноза, ограничившись афоризмом «память есть намерение», предпочел заняться эмоциями. Недалеко от них ушел и Кант. Будучи человеком педантичным, он, взявшись писать свою «Антропологию», не мог, конечно, обойти в ней память молчанием и даже поделил ее на виды. Однако он был убежден, что память и мышление состоят в весьма отдаленном родстве, а посему, обрушившись с нападками на мнемотехнику, заявил, что ни в грош не ставит тех, кто «хранит в голове груз книг на сто верблюдов», но зато лишен «способности суждения». Однако всех превзошел Мальбранш, заметивший небрежно, что останавливаться на объяснении памяти нет нужды, ибо каждый, кто не поскупится на некоторое усилие ума, может сделать это сам. Чисто французское легкомыслие!