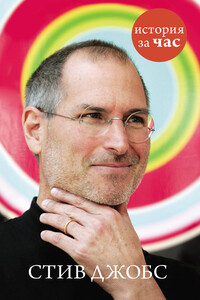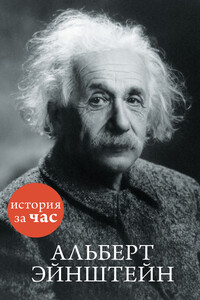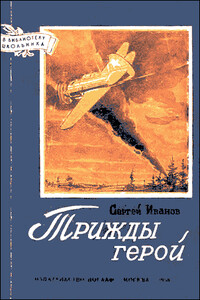Отпечаток перстня | страница 51
Попытки широкой трактовки памяти, угаснув в конце 20-х годов нашего столетия, вспыхнули вновь в связи с рождением кибернетики и, главное, с дилетантским увлечением ее идеями. Увлечение прошло, но «последействие» осталось, и расстановка всех памятей по своим местам не кажется нам делом запоздалым и неуместным. Вместе с тем на примере растений и клеток нам хотелось показать, что никакая расстановка и классификация не может считаться окончательной. Это всего лишь плод «здравого смысла» определенного этапа. С каких позиций будут судить о памяти в конце столетия, сказать уже трудно. Единственное, что можно утверждать, это то, что основные руководящие начала, и в первую очередь критерий Рибо, останутся в силе.
Провозглашенное кибернетикой тождество некоторых принципов управления в организмах и механизмах легло в основание многих развивающихся биологических и технических дисциплин. Кибернетические аналогии открыли глаза исследователям на оставшиеся в тени стороны давно изучавшихся ими объектов и ввели в поле их зрения новые объекты. Точно так же оказалась в своем роде плодотворной и концепция, ведущая начало от Геринга. Влияние его идей на психологию и физиологию ощущалось более полувека. Те, кого увлекло определение памяти только как последействия любой стимуляции, перебрав все виды организованной материи, зашли в тупик. Зато другие, принявшись за разработку идеи об универсальном объяснительном принципе и беря природу в ее непрерывном развитии, высказали немало проницательных замечаний о памятливости живой и неживой материи, о некоторых важных сторонах эволюции и о зарождении видовой и индивидуальной памяти. Среди ученых этого направления мы должны прежде всего упомянуть немецкого биолога Рихарда Земона и швейцарского психиатра Эйгена Блейлера.
Факты повторяемости и последействия свойственны не только живой, но и неживой природе, писал Земон. Мы обнаруживаем их там, где налицо полная или почти полная повторяемость тех условий, которые их впервые породили. Однако настоящего совпадения тут нет. Приглядевшись к памяти живой природы, мы заметим одну весьма характерную ее особенность. Повторение происходит и тогда, когда первоначальные условия повторяются не целиком. Для выявления «мнемического комплекса» в подавляющем большинстве случаев достаточно гораздо меньшего раздражения, чем первоначальное, то есть уже знакомых нам «слабых стимулов». Принцип памяти, продолжал ту же мысль Блейлер, заключается в том, что последовательность в реализации какой-нибудь функции, однажды осуществившись, будет при повторном раздражении воспроизводиться автоматически. Древнее простейшее существо, достигнув некоторой величины, разделилось потому, что условия дыхания при создавшемся соотношении величины и поверхности стали для него неблагоприятными. В дальнейшем подобные деления воспроизводились уже с большей легкостью и не обязательно по той же причине: не из-за недостатка кислорода, а всего лишь по достижении той же самой «критической» величины. Вот типичный пример проявления принципа памяти. Для Блейлера память неизменный принцип всякого развития и целесообразности любой материи, руководящее начало всех начал. Поисками такого метапринципа занимались мыслители всех эпох. Что может быть соблазнительнее вывести всю эволюцию из единого принципа, единой формулы! Но ничего не может быть и опаснее: на этом пути на смену одной разгаданной загадке тотчас же, как отрубленная голова у дракона, вырастает новая, а метапринцип начинает смахивать на прокрустово ложе.