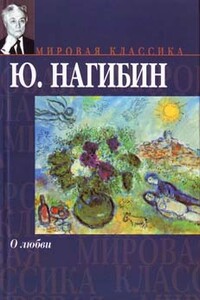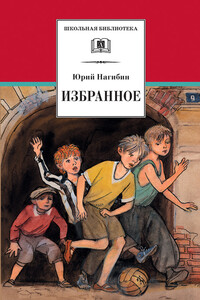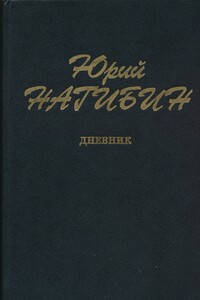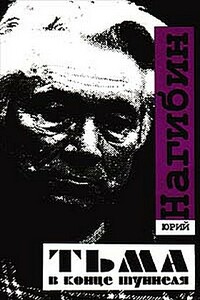Эхо | страница 92
И вот мы топаем вдоль Чистопрудного бульвара к Мясницким воротам. Шесть лет учились мы с Катей в одной школе, с первого школьного дня, и лишь сегодня впервые обменялись простыми, ничего не значащими словами, полными скрытого значения и смысла. У меня такое чувство, будто я объяснился ей в любви и объяснения мои приняты благосклонно. И некоторая неловкость перед Павликом владеет мною. Он-то не обменялся ни одним словом с Катей. Молчаливый от природы, он сейчас и вовсе онемел. Даже когда я обращаюсь к нему, Павлик лишь кивает головой, пожимает плечами, прищуривает или округляет глаза. Что это с ним? Осторожно заглядываю ему в лицо. Взгляд ясный и, как всегда, словно бы издалека. Наверно, все дело в том, что он больше моего любит Катю.
Я упоен своей отвагой, находчивостью и свободой. Никакого великодушия — Павлик брошен, как Мальмгрен на льдине. У меня одна забота — развить свой успех, отличиться, выкинуть что-нибудь небывалое. Но что можно сделать, когда тебя увлекает строй, неровный, разболтанный, но все же строй, которому приходится подчиняться! Почему молчат барабаны? В их дроби нашло бы хоть какой-то исход распирающее меня чувство. Но барабаны висят на бедре у барабанщиков, кленовые палочки засунуты за ремень; зачехлены знамена, их несут на широких плечах старшеклассники. Праздник еще не начался, он где-то впереди, но уже заложен в ячейку тех сот, что зовутся временем. Он предопределен, рассчитан и все знает про себя, а стало быть, и про нас, каждому отведено свое место, своя судьба. Лишь мы ничего не ведаем, опьяненные мнимой свободой, чуждые догадке, что наши роли расписаны.
Вразброд, нестройно, но довольно ходко колонна шагала по Москве. Зеленела молодая листва бульвара, и еще ярче зеленели насвежо покрашенные к весне железные кубы и цилиндры общественных уборных; мчались одинокие, без прицепа, вагончики трамвая «А», грохотали телеги по булыжнику Уланского переулка, там находился извозный двор, где дачники нанимали подводы для перевозки вещей. На горбине Рождественского бульвара, будто на краю пропасти, сиротливо жались к тротуару костлявые, пыльные пролетки последних московских лихачей, понурые лошади медленно ворочали челюстями в длинных торбах, а старые извозчики подремывали на козлах в тщетном ожидании седоков, им снились «Стрельня» и «Яр». Полно было такси — «фордиков» и доживающих век пионеров московского таксомоторного парка темно-синих «рено» с тапирьими носами.