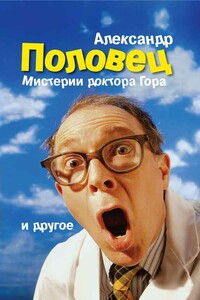БП. Между прошлым и будущим. Книга 1 | страница 29
Путешествует… Да, Городницкий путешествовал: в геологоразведочных экспедициях, в краях, откуда, бывало, группа возвращалась в неполном составе; он плавал — по воде на паруснике «Крузенштерн», под водой, погружаясь в батискафах чуть ли не в Марианскую бездну. А еще — экспедиции на Памир, дрейф на станции «Северный полюс»… Замечательный человек — с ним мы еще встретимся и подружимся: в жизни — множество раз, а позже и на этих страницах, давно написана глава, полностью ему посвященная.
А тогда… Наступила эра бардов, современных нам авторов слов и музыки, исполняющих свои песни. Песни, потому и названные «авторскими». Мы собирали уже не только старые пластинки, но и магнитофонные бобины (кассетников еще не было) с записями Кима, Клячкина, Высоцкого. И, конечно, Окуджавы. А когда удавалось, слушали их непосредственно, чаще всего на учрежденческих и институтских вечерах — такая традиция возникла в годы, названные оттепельными. И при немалом давлении, оказываемом на ее хранителей, продолжилась через десятилетия — справиться с ней власти уже не могли. Кому совсем везло — встречались с бардами дома, у общих друзей или друзей этих друзей.
И еще — появился «журнал с дыркой», как называли любители студенческой песни «Кругозор», с вложенной в него гибкой пластинкой (в его создании — немалая заслуга быстро набиравшего популярность Юрия Визбора).
Первой «консерваторией» моих сверстников-приятелей, естественно, был двор нашего дома: там в конце 40-х, сбившись кучкой на площадке черного хода, затаив дыхание слушали мы блатные песенки, привезенные недавно освободившимся из мест не столь отдаленных Мишкой Рыжим. «Таганка», «Мурка» и «Когда я был мальчишка…» — это из разряда самых безобидных, что мне довелось от него услышать.
В пионерских лагерях нас увлекала другая и, конечно, тоже неофициальная романтика. «Жил один скрипач, молод и горяч, пылкий и порывистый, как ветер…», «Есть в Батавии маленький порт…» Но, правда, и «Огни притона заманчиво мигали»…
Шли годы, с ними пришло, почти отошло увлечение Вадимом Козиным, Петром Лещенко. Именно — почти. Ну как объяснить, что в памяти живо сохраняется звучание тенора, пробивающегося сквозь шорох патефонной иглы? Будто сейчас слышу я манерно выговариваемые певцом слова: «Завял наш бЭдный сад, осыпались листы… Но я храню ваш образ берЭжливо…»
А еще — Марфесси: его «цыганские» пластинки можно было купить у барыг на Коптевском рынке, выменять на того же Лещенко… Правда, связано это было с определенным риском: настоящие пластинки попадались не часто, да и стоили немало, а больше в ходу были отходы рентгеновских лабораторий — плёнки. Укладываешь только что привезенную плёнку поверх настоящей пластинки, опускаешь на нее иглу патефона и слышишь: «Лещенко хотите? X… вам, а не Лещенко!» И мерзкий смех…