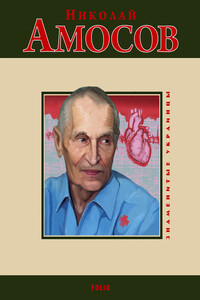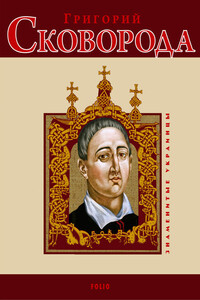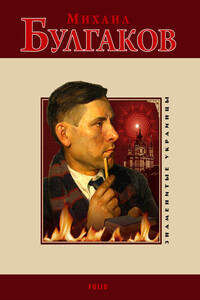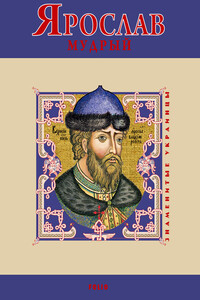Владимир Мономах | страница 21
Как видим, письмо проникнуто не столько болью за смерть сына, сколько за разорение Русской земли. Владимир Мономах здесь выступает как истинный христианин, для которого, несмотря на жестокость времени, не чужды высокие гуманистические христианские идеалы. Он прежде всего беспокоится не о личных интересах, а об интересах родины.
В очередной раз Олег обещал – что ему оставалось делать – выполнить требование племянника и просьбу Владимира. Он согласился приехать на съезд князей.
В 1097 г. Русь стала свидетелем необычайного события: впервые в ее истории все наиболее крупные и известные русские князья Рюриковичи, внуки и правнуки Ярослава Мудрого, съехались в родовой замок Мономаха в г. Любече для того, чтобы «устроить порядок» на Руси.
Замок стоял на высокой горе близ старинного города Любеча, бывшего одной из ключевых крепостей в верховьях Днепра. Несколько месяцев строил князь свою резиденцию. Он прислал сюда лучших каменщиков, плотников, кузнецов из своих сел и городов. Тяжкой повинностью легло это строительство на любечан. От них требовали телег с лошадьми, землекопов и других работников. Надзор за строительством князь поручил своему любеческому огнищанину (т. е. управителю).
Все строительство размещалось на площади в тридцать пять на сто с небольшим саженей[1]. Стены замка состояли из огромных дубовых бревен, которые укладывались в могучие срубы и забивались глиной. Эту глину придавливали к стенам тяжелыми колодами, которые едва поднимали четверо человек. Между срубами вкапывали в землю сторожевые башни из камня и дубовых бревен.
Въехать или войти на гору можно было лишь по крутому подъему, обращенному в сторону города. Здесь-то и были построены въездные ворота, перед которыми через ров строители перекинули подъемный деревянный мост. За воротами въездной башни шел узкий проезд вверх, огороженный с обеих сторон поднимающейся уступами крепостной стеной. А дальше высились главные ворота крепости и начиналась основная крепостная стена. В том случае, если бы враги сумели овладеть первыми воротами и ворваться внутрь прохода, им бы пришлось продвигаться к основным воротам крепости под ударами обороняющихся, которые располагались на уступах стены по обеим сторонам прохода, а дальше наступающие наткнулись бы на могучие бревна основной стены.
Следующие ворота с двумя башнями, стоящими по бокам от них, пройти тоже было непросто. Вход внутрь замка шел через глубокий и длинный крытый проход с тремя заслонами, каждый из которых, опускаясь, мог преградить путь врагам. Проход заканчивался небольшим двориком, где размещалась замковая стража. Отсюда был вход на стены. В этом дворике располагались коморки с очагами для обогрева стражи в холодное время. В стенах, огораживающих дворик, было сделано множество клетей, в которых хранились различные съестные припасы: вяленая и сушеная рыба, мед, вино, зерно, крупы. В глубине дворика стражи стояла самая высокая, массивная четырехъярусная башня замка – вежа. Если бы враг все-таки прорвался через замковую стражу, ему пришлось бы миновать на пути к княжескому дворцу эту башню. В ее глубоких подвалах располагались ямы – хранилища зерна и воды. Только миновав вежу, можно было попасть к клетям с едой, спрятанным в стене, только через нее шел путь внутрь замка. Именно в этой башне жил огнищанин. За вежей шел парадный двор, ведущий к княжеским хоромам. На этом дворе стоял шатер для дворцовой стражи. Отсюда же имелся тайный спуск к стене.