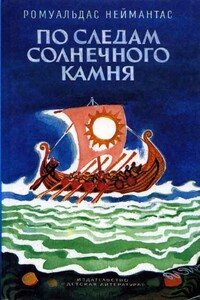Огненное порубежье | страница 55
Воины сели к столу, стали жадно есть, чавкая и подливая себе в чары темный мед.
— Ешьте, ешьте, дорогие гости,— угощал их хозяин. Сам он старался быть под рукой — тому одно подать, тому другое, следил, чтобы полны были ендовы.
Об остальном Любим не тревожился: знал, что Евника уж подняла во дворе мужиков, что мужики кормят и поят коней, а на сене готовят воям мягкую постель.
Мед у Любима был крепок, настоян на чабере: когда надо, веселил, когда надо, клонил ко сну. И уж совсем было задремали воины, и Давыдка солово уставился на играющую только что вздутым огнем печь, как в сенях послышалась возня, недовольный голос Евники, потом упало что-то тяжелое, дверь распахнулась, и на пороге появился взъерошенный Зихно.
Любим, побагровев лицом, приподнялся уж с лавки, чтобы дать ему затрещину и выпроводить за порог,но Давыдка вскинул заплывшие веки, икнул и поманил нежданного гостя к столу.
Тогда и Любим приветливо улыбнулся и указал Зихно на лавку. Про себя выругался: «Навязал черт нечистого!» Зихно второго приглашения ждать не стал, выпил чашу, выпил вторую, а с третьей стал рассказывать про свое житье-бытье и смешить честную братию.
Всем бы давно уж пора ко сну, а тут будто и не пили, будто и не отмахали сорок верст на лошадях. Слушают богомаза, рты от удивления разинули, гогочут так, что, того и гляди, образа посыплются с божницы.
Дальше — больше, рассказал Зихно, как расписывал Печерскую лавру, как прогнал его игумен Поликарп и как добрался он до Москвы да пил меды сперва у попа Пафнутия, а потом у Любима.
Все бы ничего, да вдруг, по пьяному-то, вспомнил он про мужика, что напугал его утром: морда — во, лапищи — во.
— Стой-ка, мил человек!— закричал Давыдка совсем трезвым голосом.— А нет ли у него шрамов на щеке?
— Есть, да не один.
— И пол-уха нет?
— Нет и пол-уха.
— И глаз один — голубой, а другой — зеленый?
— И то верно,— все более изумляясь, кивал головой Зихно.
— Быку рога на сторону своротит?
— Своротит. Косая сажень в плечах. Не человек — медведь.
Затрясся тиун, а Давыдка подсел к Зихно, обнял его и ласково так, как дитю малому, говорит:
— А про грамотку тот мужик ничего не сказывал?
Поглядел Зихно, как строит тиун страшные рожи, но соврать все равно не смог:
— Сказывал и про грамотку.
— Ну, Любим,— тихо, почти шепотом, сказал Давыдка и выпрямился во весь рост.
— Ну, Любим,— повторил он, и тиун с воплем повалился ему в ноги: не казни!