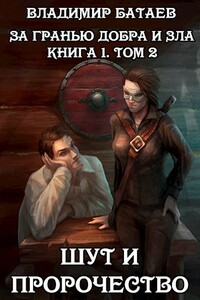Меня зовут Дамело. Книга 1 | страница 27
Во сне он видел их приземистые, немодные в третьем тысячелетии силуэты, гладил волосы, текущие ночными реками, ласкал смуглую кожу в священных татуировках, знаках покорности ему, ему одному. Только он, Единственный Инка, мог открывать двери, ведущие в дома девственниц Солнца, есть приготовленные ими яства, распоряжаться их жизнью и смертью. Память или воображение приносили в его сны крики сброшенных в кебраду[37] — дабы умилостивить Солнце или утишить гнев Великого, чья кровь по вине женской похоти едва не смешалась с кровью простых смертных.
Глупые фантазии подростка, напуганного сравнением с другими мужчинами, усмехается Дамело. Сейчас-то он знает: нет ничего хуже участи обладателя гарема, вечного надсмотрщика, принимаемого из страха или почтения. Участь ловкого вора, урвавшего чужой кусок и ускользнувшего от возмездия, куда слаще. Сколько же пришлось пережить, прежде чем простая истина «Не охраняй, а кради!» вошла в плоть и кровь молодого кечуа. Там, в поезде, все только начиналось.
Дамело не помнил лица проводницы, но кажется, оно не было даже симпатичным. Да и фигура была… на любителя. В ней все было широкое — плечи, грудь, спина, душа и объятья. Демо-версия валькирии. И пахло от нее не так, как от Сталкера — не удушливой сладостью фруктовых садов, не горячим медом и золотым тестом, будто свежеиспеченной магрибской пахлавой. Пахло от «валькирии», как положено, конюшней — кислым сеном, лошадиным потом, сыромятной кожей и ржавым железом. Дамело зарылся в неизысканный, неженственный запах лицом, телом, руками, провел в нем ночь. И этот «роман» так и остался самым долгим в его жизни.
Москва, похоже, поджидала, когда Сапа Инка нанесет ей визит, по приезду приняла Дамело с купеческой щедростью — и с купеческой же придурью. Если Санкт-Петербург оправдывал данное ему мужское имя и странности имел мужские, истерики колол по-мужски, наряжался как денди, а с устатку и похмелья таскался бомж бомжом — Москва была белогрудая, румяная и пошлая купеческая дочка. Шампанское пополам с квасом пила, швыряла сумасшедшие тысячи на бессмысленные прихоти, о которых назавтра забывала, сгребала в объятья и без памяти целовала пухлым ртом, чтобы тут же оттолкнуть да залепить пухлой ладошкой сокрушительную пощечину, после которой долго-долго звенело в голове: удар у купчихи был не женский. И Дамело учился его держать — не как мальчишка, но как мужчина.