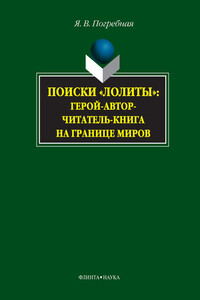Актуальные проблемы современной мифопоэтики | страница 32
Если обратиться к периодам ремифологизации в истории культуры, то можно выделить следующую закономерность: мифы постархаической эпохи порождаются в результате конфликта сознания человека с мирозданием, как раз с тем инвариантом космогонии, который навязан ему конкретным историческим моментом и конкретными обстоятельствами (в стихотворении Набокова «Слава» – «обстоятельством места навязанным мне»). М. Элиаде указывает, что обращение к мифологическому идентифицируется в поведении современного человека, исходя из анализа его позиции ко времени (Элиаде, 1996. С.34). Способами уйти от современной истории, жить в качественно ином темпоральном ритме, выпасть из течения времени, выступают, по мнению исследователя, два «отвлечения»: чтение и зрелищные развлечения. А. Косарев порождающим миф параметром считает «бессознательное»: «Там, где останавливается сознательное движение мысли, там она продолжает двигаться бессознательно, неся с собой миф» (Косарев, 2000. С.53). Собственно исследователь описывает внутренний механизм «отвлечения», возможности выпасть из хода времени, связанный с приостановкой работы сознания и самоосознания в конкретном социальном национальном, историческом и т. д. статусе: выход за пределы времени означает приобщение ко времени начала, к вечности, лишенной протекания. Таким образом, мифопорождающая ситуация в культуре Нового времени вызвана конфликтом с существующим состоянием времени-пространства: так возникают христианские мифы, социальные утопии эпохи Возрождения и ремифологизация литературы романтиками и символистами. А.Н. Веселовский характеризует христианство как «вторую пору великого мифического творчества», возникающие в этот период мифы и обряды «воспроизводили мифический процесс на христианской почве» (Веселовский, 1938. С. 1–11). Мир, сотворенный фантазией художника или прозрением христианского пророка, находится в очевидной оппозиции к миру, лежащему за его пределами, в которых до приобщения к мистическому озарению или творческому трансу пребывает телесно-материально и сам творец этого мира, что осознается соответственно как испытание или как трагедия. А. Косарев, обобщая опыт исследователей, стремящихся связать психологию человека с психологией мифа, указывает, что «проблема личности оказывается неожиданно в центре внимания исследователей, стремящихся проникнуть в существо мифа и процесс мифотворчества» (Косарев, 2000. С.120). В монографии В.В. Налимова «Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и архитектоника личности» (М., 1979) утверждаются следующие основания мифотворчества: «.каждая культура создает свои мифы о личности. Критические моменты истории – это точки возникновения новых мифов. Большие исторические события – это прежде всего столкновение мифов о личности» (Налимов, 1979.С.25). В неомифологизме XX века не столько обстоятельства конфликта с мирозданием, сколько стремление установить связь вечности и современности, космоса и истории, мифа и литературы побуждают создавать новые ментальные миры. Отчасти ироническое замечание И. Бродского «Нам не нравится время, Но чаще – место» (Бродский, 1992. Т.2.С.306) вызвано снятием и снижением сакраментальной романтической оппозиции по отношению к текущей истории, находящей выражение в формуле стремления «уйти от ужаса истории». Конфликтность мира вымышленного и иного, лежащего за его пределами, сменяется альтернативностью, осознанием множества инвариантов одной судьбы, по-разному воплощаемой в разных временах и пространствах. В одной из наиболее многоаспектных и серьезных работ по философии мифа А. Косарева утверждается мысль о единстве в мифологии трех реальностей: эмпирической (чувственной, физической), внеэмпирической (сверхчувственной, метафизической) и надэмпирической (мистической, транцендентной) (Косарев, 2000. С.153). Мифологическое сознание моделирует не один мир, а множество миров, населенных разными существами (наиболее упрощенная схема – трехмирная, в которой средний мир принадлежал людям, нижний – предкам и хтоническим чудовищам, верхний – богам), между мирами и населяющими их существами устанавливалось сообщение, проникновение в иной мир носило мифологический статус и было связано с изменением качества (часто обороничеством). Сибирский миф о мышах в пересказе В.Г. Богораз-Тана изображает особую область, принадлежащую мышам, в которой они ведут образ жизни, повторяющий жизнь человеческого племени, и заболевшая горлом в человеческом мире старуха – в том мире – мышь, попавшая в силок: «Можно лечить ее двояко. Или врачевать ее шаманством там, в той особенной области, пока не лопнет пленка здесь. Тогда старуха исцелится. Можно оборвать пленку здесь. Мышь убежит, и старуха опять-таки исцелится там.» (Богораз (Тан), 1923. С. 58–59). Пересказ тем более интересный, что он ведется из пространства иного, мышиного, нечеловеческого мира. В «Дао Дэ Цзин» читаем рассуждение о множественности форм сущего, пребывающих синхронически: «Например, во сне становлюсь птицей и парю в небе. Во сне становлюсь рыбой и исчезаю в пучине. Хоть это и сон, но не знаю, что это сон» («Дао Дэ Цзин», 2002. С.107). Чжуан-Цзы приводит эссе о бабочке: «Однажды Чжуан Чжоу приснилось, что он бабочка. Внезапно он проснулся и тогда с испугом увидел, что он Чжуан Чжоу. Неизвестно, Чжуан Чжоу снилось, что он бабочка, или же бабочке снилось, что она Чжуан Чжоу» (Древнекитайская философия, 1972. Т.1.С.44). В романе М.А. Астуриаса «Маисовые люди» метаморофзы людей, персонификаций маиса, соотносятся с архаическим оборотничеством (почтальон Ничо на вершине горы обращается в койота), но мир людей двуипостасен, как двуедин Гойо Йик, идентифицированный как «двуутробец»: «После жатвы, чтобы таскать маис, и старики, и дети, и мужья, и жены оборачивались муравьями. Муравьи, муравьи, муравьи, одни муравьи.» (Астуриас, 2004. С.276). М. Элиаде указывает на необходимость синтеза мира современного и мира архаической культуры, еще сохранившегося у туземцев, но этот синтез должен идти не внешним эмпирическим путем, а путем внутреннего осознания в себе тех же мифологических начал, что присущи и туземцу: «Теперь уже не является достаточным, как полстолетия тому назад, открывать для себя и восхищаться искусством негров или тихоокеанских островитян. Сейчас мы должны заново открывать духовные истоки этого искусства в самих себе.» (Элиаде, 1996. С.39). Именно таким образом реализуется в современной культуре феномен неомифологизма, направленный, с одной стороны, на установление и актуализацию архаических основ в структуре сознания, восходящих к древнему мифу, с другой, на создание по модели архаического мифа мифа современного.