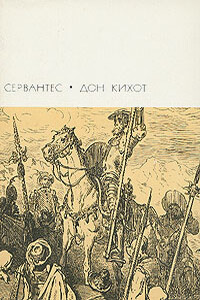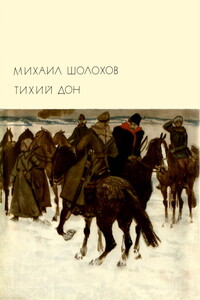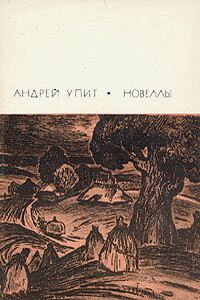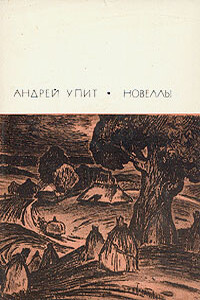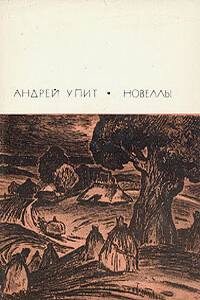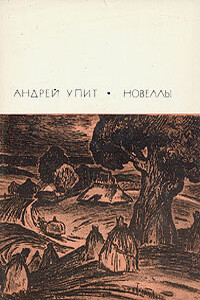Новеллы | страница 57
Старый Клява стискивает зубы и старается проглотить что-то горькое и твердое… За эти четыре недели случалось то одно, то другое, то там, то тут происходила какая-то путаница, а потом опять все само собой распутывалось и сглаживалось. Может быть, это потому, что он всякий раз уступал, разрешал, чтобы все делалось так, как им хотелось. Но в это утро он все воспринимает во много раз болезненнее. Сегодня он не стерпит. Может быть потому, что много чего постепенно и незаметно накопилось у него за эти четыре недели. Может быть потому, что прошлую ночь он не спал, может быть потому, что сегодня — последний день.
— Не пора ли запрягать? — Адам у колодца беспокойно переминается с ноги на ногу.
— Проснулись уже? — спрашивает старый Клява, и голос его звучит сухо, холодно.
— Встали, уже завтракают. — Адам кивает головой на крайнее полуотворенное окно. — Сказали, что тотчас после завтрака поедут.
«Тотчас после завтрака…» Старый Клява смотрит на окно, из которого доносится говор, смех и звяканье посуды. Второй поезд отходит в обед, третий — около шести вечера, а им, видите ли, надо ехать с самого утра. Надоели им… чужими стали…
Он сердито откашливается и встает.
— Погоди! — кричит он Адаму. — Когда скажут, тогда и будешь закладывать.
Он входит в дом.
Все трое сидят за столом, как обычно: студент Альберт — у окна, гимназист Карл — напротив, Анна — ближе к дверям. Как обычно, все разговаривают, смеются, шутят, и Анна — легкая, как перышко, бегает вокруг стола, прислуживая братьям. В первое мгновение отца никто не замечает.
Он с минуту стоит в дверях. Затем подходит к окну, нарочно постукивая палочкой по полу.
— Доброе утро! — сухо здоровается он. Хочет еще добавить — «дети», но вовремя спохватывается. Это было бы и унижением и вызовом. Они первые должны… И угрюмо, сосредоточенно ждет.
Все трое в один голос отвечают: «Доброе утро», но… не добавляют — «отец».
Старый Клява тяжело опускается на стул возле окна.
— Налить? — спрашивает Анна и тянется за четвертой, пустой кружкой.
— Спасибо, дочка! — отвечает отец каким-то не своим, резким голосом. — Где уже мне с вами. Кофе — это не для меня. Похлебаю щей с батраками.
Он сам пугается своего сердитого голоса. Но дети этого даже не замечают. Они им уже мало интересуются. Болтают, шутят, громко смеются, слишком громко для воскресного утра. Они рады, что наконец уезжают. Старый Клява сидит у окна. Некоторое время прислушивается к их разговорам, хотя понимает с пятого на десятое. Незаметно вглядывается в лица детей. В груди у него горячая любовь, ему хочется подойти, простереть над их головами руки для благословения, обнять и не выпускать. Отдать им последнюю каплю крови, последнее биение сердца… Отдать все… Но, словно волна, несущая острые льдины, его захлестывает горечь, и оскорбленная, униженная гордость убивает в сердце нежность. Душа мечется между двумя крайностями, устает, черствеет, становится несправедливой, но не может найти точку равновесия.