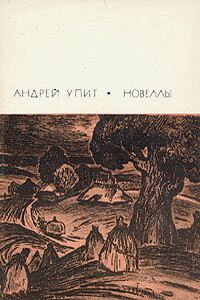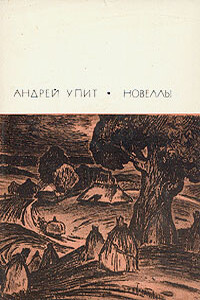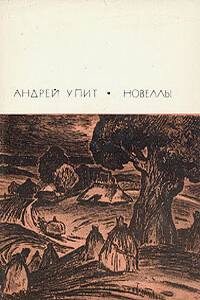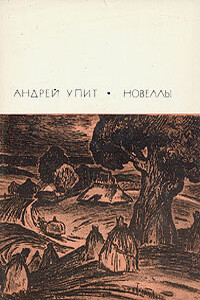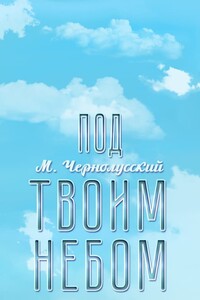Новеллы | страница 5
Если в начале своей творческой деятельности Андрей Упит еще не смог подняться до литературно-публицистической практики «новотеченцев», то после революционного подъема 1905–1907 годов он становится главным продолжателем их традиций.
Из собственных слов писателя видно, что его ранняя литературная деятельность развивалась по двум направлениям — он писал… писал… и учился… учился, мучительно стараясь постичь тайны художественного мастерства.
Постепенно из приходского учителя он становится крупным специалистом по литературе и эстетике; из малоизвестного автора вырастает в подлинного мастера художественного слова.
Рассказы и новеллы, созданные в этот период — это первые серьезные творческие достижения писателя. Лучшие из них составили двухтомник «Маленькие комедии» (1909–1910), которые открывались циклом о «маленьких людях» (первый рассказ датируется 1901 годом).
В интерпретацию проблемы «маленького человека», которая получила такое широкое развитие в мировой и, в частности, в русской литературе, латышский прозаик вносит нечто особое и новое. «Маленький человек» Андрея Упита не просто забитый труженик, которому писатель выражает свое сочувствие и свои симпатии, он — мелок по своему характеру и своим устремлениям, старается выбиться в «большие», приспособиться к тем, кто сумел за счет других попасть «на верх». В душе подобного «героя», как в кривом зеркале, отражается нелепость буржуазного образа жизни. Разумеется, для раскрытия этого характера самая подходящая интонация — сатирическая. Видимо, поэтому писатель в своих первых рассказах и новеллах довольно широко пользуется средствами сатиры, пытаясь вскрыть всю никчемность и бессмысленность жизни в условиях капиталистического строя (новелла «Сердце» и другие). Именно в этих рассказах больше всего чувствуется влияние Чехова.
Сам писатель, вспоминая позднее об особенностях этого периода своей литературной деятельности, отмечал:
«В рассказах Чехова я обнаружил нечто родственное своим «Маленьким комедиям»… Как и его, меня привлекали эти мелочи будничной жизни, своеобразие поступков и черты характера искалеченного ею человека, которые как бы отдельными живописными мазками характеризуют картину всеобщей спешки конца 90-х и начала 900-х годов… Я не стал учеником и подражателем ни Чехова, ни Горького, но должен признать, что для моего идейного и художественного роста они дали больше, чем любой из тех многих десятков западноевропейских и американских прозаиков, с которыми я познакомился за пятьдесят лет своей писательской деятельности».