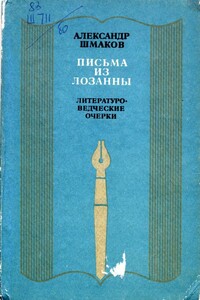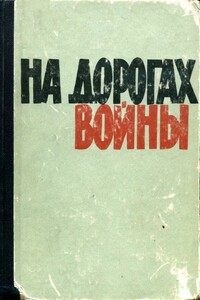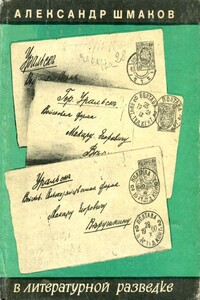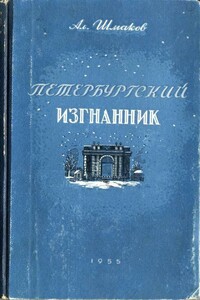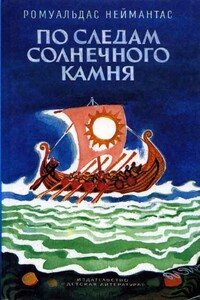Петербургский изгнанник. Книга первая | страница 62
Сумароков думал, что Радищев ответит ему пышной тирадой о вольности или скажет обличительную, гневную речь. Поводом к этому мог бы служить случай с калмыцкой девочкой.
— Иван Андреевич, — сказал Радищев, — горячность ваша от молодости вашей. С нею не долго и до греха… — И обращаясь к обоим собеседникам добавил: — Чтобы всё это не было утехой сердца и воображения, тщательно проверьте всё разумом…
Может быть, излишняя предосторожность сдерживала Радищева от откровенных суждений о Франции, может быть, ещё не стихшая боль изгнания не давала ему сказать о революции в Париже всё, что он думал. Как бы там ни было, но Александр Николаевич воздерживался высказываться сам, а предпочитал выслушать собеседников.
Радищеву в эту минуту отчётливо вспомнились его же слова из книги:
«Малейшая искра, падшая на горючее вещество, произведёт пожар, сила электрическая протекает непрерывно везде, где найдёт себе вожатого. Таково уже свойство человеческого разума. Едва один осмелится дерзнуть из толпы, как вся окрестность согревается его огнём, и как железные пылинки летят прилепиться к мощному магниту».
Он подумал о том, что ему не следует собирать вокруг себя людей с якобинским заквасом в душе, подвергать их опасности. Но люди сами тянулись к нему, и Радищеву было приятно сознавать, что они не гнушаются его положения ссыльного. Своим доверчивым отношением они помогали ему рассеять обстановку изгнания. Они словно вытягивали Александра Николаевича из трясины, в какую он попал, будучи заброшенным в Сибирь горькой судьбой, и ставили его в положение вольного человека, равного с ними.
Затронули в разговоре книгу Томаса Мора «Картина возможно лучшего правления». Мысли автора, всегда ясные, глубокие, которые пытался пересказать Сумароков и поддержать Лафинов, не затрагивали Радищева. Он изредка вставлял слова, взывавшие к высокому призванию человека в обществе, но к какому, Радищев умалчивал. Он делал это умышленно.
Угадывая вольную мысль собеседников, искавшую ответа, он направлял разговор так, чтобы это было откровеннее высказано. Радищев не обобщал, не делал никаких выводов, хотя они напрашивались и можно было бы сказать здесь жгучую правду о жизни.
А у собеседников идеи вольности, как родник, прорывались наружу. Ни Сумароков, ни Лафинов не скрывали их, а только искали подтверждения, хотели услышать слова поддержки. Говорили, что было в Тобольске при губернаторе Чичерине, что стало при Алябьеве. Сравнение помогало уяснить истину. Радищев заметил: