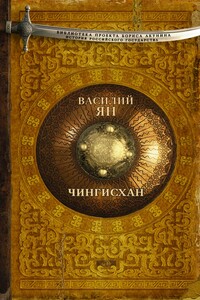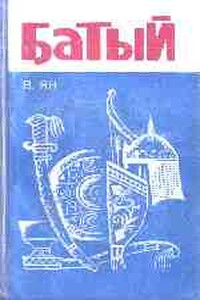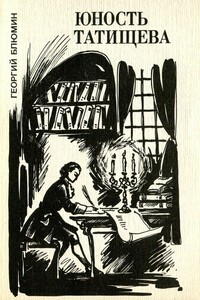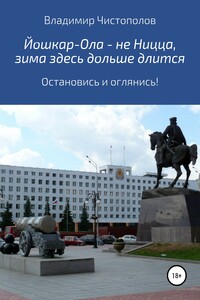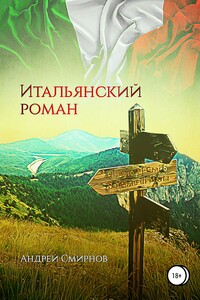Том 1. Финикийский корабль. Огни на курганах. Спартак. Рассказы | страница 8
Лишь малая часть их вошла в первую книгу Василия Янчевецкого «Записки пешехода» (1901), вышедшую небольшим тиражом в издании газеты «Ревельские известия». Многие материалы, не попавшие в книгу, печатались в те же годы в петербургской и ревельской периодике или были включены позднее во вторую книгу статей, очерков и рассказов на темы воспитания, изданную в 1908 году. Но, как сообщает М. В. Янчевецкий, большая часть записок осталась неопубликованной и оказалась утраченной.
Если «Записки пешехода» и были для молодого Василия Янчевецкого «пробой пера», то отнюдь не ученической: в ранних публикациях журналиста угадывался начинающий писатель. Влечение к образному слову, повествовательному сюжету, живописной социальной, психологической, бытовой детали — все вместе выдавало явное тяготение к прозе, для которой тесны и скудны возможности оперативного репортажа. Большинство прозаических миниатюр, составивших книгу, представляют собой выразительные очерковые зарисовки, которые перерастают в сюжетные новеллы.
Своего рода смысловым ключом к ним может служить очерк «Живучие люди», имевший для автора программное значение. Датированный концом прошлого века, он выражает умонастроения русской интеллигенции, в сознании которой еще живы традиции народнического «хождения в народ». Не обязательно с целью революционной пропаганды в крестьянских массах, но непременно с искренним побуждением познания народной жизни, духовного приобщения к ней. Начало нового, пролетарского этапа революционно-освободительного движения в России не отменило старых общедемократических традиций просветительского гуманизма, пусть ограниченных, но также «работавших» на социальный и духовный прогресс нации и потому разделяемых многими передовыми людьми того времени. На такой позиции стоял и молодой Василий Янчевецкий, чье «хождение по Руси» диктовалось внутренними потребностями собственного духовного развития, а выражало объективно социальные и нравственные устремления широкого слоя демократической интеллигенции, воспитанной на гуманистическом пафосе народничества и народнической литературы.
«Хождение по Руси» в полной мере убедило будущего писателя в том, как плохо приспособлена для человеческого счастья российская действительность, однако мысль о ее революционном преобразовании не входит в круг идей, развиваемых и утверждаемых в очерках и рассказах, хотя в гуманистическом сострадании народу содержатся мотивы социальной критики. Не глазами безучастного, праздного наблюдателя, который изучает крестьянский мир «сверху» или «со стороны», воспринимает автор «Записок пешехода» народную жизнь, но человека, сильно и глубоко страдающего от ее несовершенства, чутко отзывающегося на ее драмы, кровно заинтересованного в ее улучшении. Такой зоркий, проницательный взгляд чужд суесловной идеализации, от него равно не ускользают как высокие духовные порывы народа, воплощенные, например, в собранных и тут же приведенных образцах фольклора, песенно-поэтического творчества, так и мрачные стороны повседневного бытия — ужасающие бедность и нужда, нищета и беспросветность, темнота и невежество, слепая сила предрассудков и суеверий. Тяжкая народная доля то и дело вторгается и в путевые зарисовки, этюды сугубо этнографического характера, «натуральные» описания крестьянского труда, быта и нравов. Не обойдены авторскими наблюдениями такие социальные и духовные явления российской действительности, как живучесть в народе, особенно в крестьянстве, царистских иллюзий, уголовная преступность- местных полицейских властей. В новелле «Голодная зима» обнажена одна из самых страшных социальных язв дореволюционного времени — хронический недород и повальный голод, охватывавший целые губернии, уносивший в нищих селах и деревнях тысячи и десятки тысяч людей.