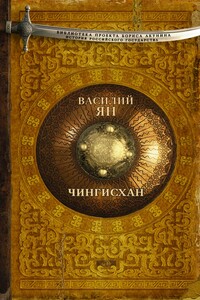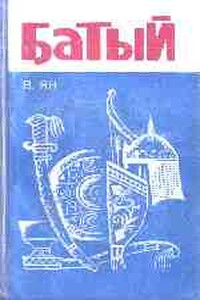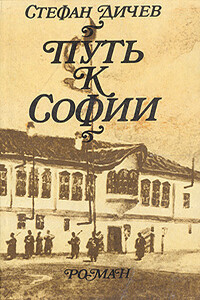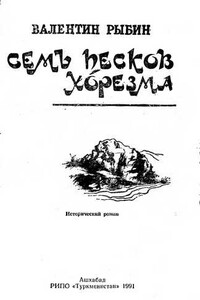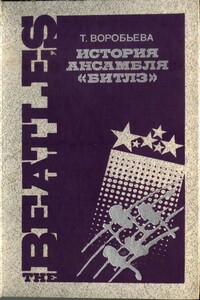Том 1. Финикийский корабль. Огни на курганах. Спартак. Рассказы | страница 32
Так, важнейшим критерием, направляющим ориентиром, которых придерживался верный себе Василий Ян. на протяжении всей трилогии выступают социальные реалии, психологические детали, бытовые подробности воссоздаваемой эпохи. Точность их живописания становится нормой повествования. Если прикладывает Чингисхан золотую печать к пергаменту — письму хорезм-шаху Мухаммеду, — то писатель не забывает отметить, что она смочена синей краской, пояснив при этом в сноске: на письмах монгольского хана к повелителям других народов ставилась синяя печать, на обыкновенных документах — красная. Если появляется впервые в трилогии малолетний Бату, то непременно «с небольшим луком и тремя красными стрелами», потому что именно три красные стрелы считались признаком высокого ханского рода. И «девятью девять раз» Джебэ-нойон и Субудай-багатур заставляют воина пропеть свое донесение «единственному и величайшему»: не умея писать, они составляют его в виде песни, которую гонец заучивает наизусть. Повторяет же он песню так многократно потому, что число девять почиталось у монголов как священное. Таково мастерство реалистической детали, которым Василий Ян владеет совершеннее, нежели искусством романтической сюжетной интриги.
Собственно сюжет трилогии задан историей и географией завоевательных походов Чингисхана и Батыя. Безупречно выдерживая его на уровне исторического повествования, писатель не всегда преодолевал сопротивление приключенческой беллетристики. Возможно, и не было бы нужды укорять его в этом, если бы обретение авантюрной занимательности не сопровождалось подчас ослаблением социально-психологического анализа. Так, в частности, происходит в начальных главах романа «Батый», повествующих о злоключениях будущего джихангира, военачальника похода на Русь, которые вызваны его враждой с другим чингизовым внуком, Гуюк-ханом.
Едва ли не хрестоматийно суждение Василия Яна о взаимоотношениях искусства и науки в писательском творчестве: «Грош цена тому историческому произведению, которое извращает точно установленные факты, даты, зафиксированные на страницах памятников». И в малой мере не противоречат ему раздумья о мастерстве исторического романиста, которые свидетельствуют, что писатель, однако, считал невозможным пренебрегать художественностью ради того, чтобы всегда и всюду «заботиться о безусловной научной точности в описании жизни своего героя, отделенного туманом столетий, в особенности когда нет описаний очевидцев, закрепленных слов, сказанных героем». Двуединая задача романиста в таких случаях состоит, на его взгляд, в том, чтобы «с одной стороны, придерживаться некоторых безусловно точных «ориентиров», а с другой стороны — свободно творить, имея художественное прозрение, бросая лучи критического и творческого прожектора в далекое прошлое, выбирая из хаоса возможностей наиболее характерные, индивидуальные черты своего героя, стараясь создать образ живой, полнокровный, незабываемый и в то же время правдивый». Сопрягая одно с другим, Василий Ян убежденно ратовал за «самую широкую свободу творческому домыслу автора, его фантазии, лишь бы этот домысел и фантазия были строго построены на точных фактах научно-исторических исследований. Фантазия, домысел не только допустимы, но даже необходимы, и не только для беллетристического исторического произведения, но и для научного исследования».