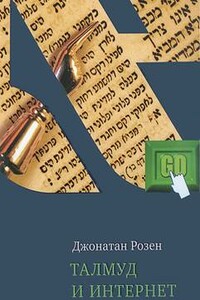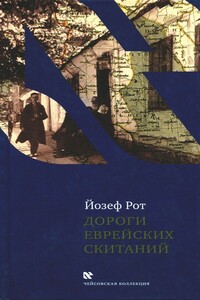Бог спит. Последние беседы с Витольдом Бересем и Кшиштофом Бурнетко | страница 21
В памяти такое откладывается все вместе, обязательно вместе. Только нужно иметь смелость об этом говорить и суметь оценить объективно, не примешивая политики.
Поэтому надо сказать, что, когда в 1988 году несколько тысяч людей под знаменами «Солидарности» пришли к памятнику Героям гетто, это была политическая манифестация против коммунистов. Так же как восстание в гетто было политической манифестацией против фашизма.
Надо говорить без обиняков, рассказывать, как было на самом деле, а не создавать мифы.
— Однако вы, отмечая каждую годовщину восстания, победили: 19 апреля к памятнику Героям гетто приходят толпы, в том числе молодежь. Моя дочка прочитала про вас в книге Ханны Кралль, еще когда училась в лицее, и — уже в свободной Польше — с несколькими своими одноклассницами поехала в апреле в Варшаву. Девочки прошли весь тот путь, который вы проходите 19 апреля — от памятника до Умшлагплац. Я сам удивился — ведь им было по семнадцать лет, в Варшаве они раньше никогда не бывали…
— И прекрасно. Но девочка не ведет политической борьбы с польским правительством. А я веду. Как раньше с коммунистами.
Ведь наше восстание вызывало очень разные реакции. У одних — сострадание, у других — ненависть, третьи были довольны и потом говорили: какое счастье, что Гитлер сделал за нас эту работу и убил этих евреев.
Я ничего не выдумываю: во время войны часто так говорили, и не только люди невежественные, но и интеллигенция. Если великий польский архитектор, который после войны восстанавливал столицу, отвел в немецкий участок двух маленьких еврейских детей… Они прятались у него под верандой — спали, там, ели то, что удавалось найти… А когда горело гетто, он говорил: «Жаль, что этот Тувим там не поджаривается». Мне это рассказывала одна знакомая, которая была у него домработницей, — ей, к счастью, удалось скрыть от него, что она еврейка.
Так что с интеллигенцией всяко бывало. Был Милош, который написал «Кампо ди Фьори», и был Анджеевский, написавший потрясающую «Страстную неделю». Написать о том, что происходит реально, на протяжении десяти-двенадцати дней… Чтобы такое засвидетельствовать, вовсе не нужен какой-нибудь новый Пруст. Но когда Анджеевский впервые прочитал «Страстную неделю» на каком-то писательском собрании, одна только Налковская сказала, что это хорошо. Остальные промолчали. Почему? Потому что это была не их жизнь. А ведь там присутствовал цвет польской интеллигенции.