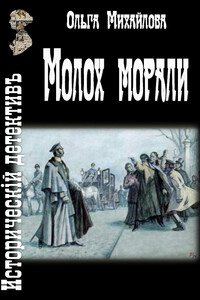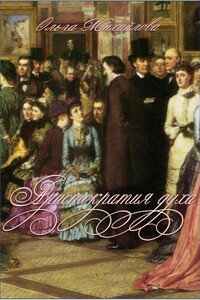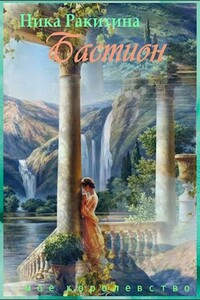Замок искушений | страница 87
Свеча погасла, и Арман почти ощупью выбрался из библиотеки. Также ощупью нашёл свою спальню, дополз до постели. Со странным остервенением сорвал с себя одежду и нырнул под одеяло. Он мечтал о сне, о забвении, как о высшей милости. Но глаза смотрели в ночь и не смыкались. Прохладные простыни холодили тело, но лоб горел, словно в тяжелой простуде. Где истоки зла? Он вспоминал лицо его сиятельства и стискивал зубы.
Да, тот правильно употребил это забытое слово. Но кто те, кто обратили в тлен, прах и пепел, душу мальчика, едва вышедшего из отрочества? Мир уже не распадался, он гнил, словно неизлечимый сифилитик… Ответят ли они за мерзости свои? Ведь живут и здравствуют, исказив и исковеркав душу и тело этого — изначально столь сильного, умного и благородного человека, превратив его в пошлого распутника, подлеца и просто — в животное. Клермон вдруг понял, что плачет, точнее, страшно першило в горле и резало глаза. Он ощупью, в темноте, нашёл на полке образ Спасителя. Прижал к груди, и снова заплакал. Теперь слёзы катились по щекам и грудь напряженно вздрагивала. Он не помнил, как провалился в сон, прикрывший его, как могильная плита.
Под утро Клермон увидел сон. Он лежал на правом боку, а рядом, на его предплечье, покоилась головка женщины с волосами цвета ежевики. Они были наги, и чресла их сливались. Её рука лежала там, где билось его сердце. Между ними, вздрагивая, как напряженные виноградные гроздья, колыхалась её грудь, маня его сжать губами сосцы. Стыда не было, но его затопляла пьянящая радость, сладкая истома, светлое ликование. Проснулся он от истечения семени, испуганно-радостный и потрясённый. Арман по-прежнему сжимал в руках образ Господа, и сон сразу показался ему кощунственным. Клермон устыдился произошедшего. Выскользнул из-под одеяла, поспешно набросил халат и, схватив полотенце, почти бегом устремился к пруду.
Холодная вода взбодрила и охладила его. Арман вылез, набросив халат на мокрое тело, и поспешил к себе. Часы на Дальней Башне пробили шесть утра. Замок ещё спал. Мысли его путались. Клермон пытался усилием воли убедить себя, что всё это — лишь фантом воображения, просто красота Элоди, столь победительно проступившая в эту ночь, её доброта и теплые слова — и ужаснувший душу рассказ Этьенна соединились в его ночном сновидении. «Procul recédant somnia et noctium phantasmata, hostemque nostrum comprine ne polluantur corpora…», бормотал он, но ловил себя на неискренности молитвы. Предутренний сон, несмотря на его скверну, манил к себе, вспоминался и нежил душу.