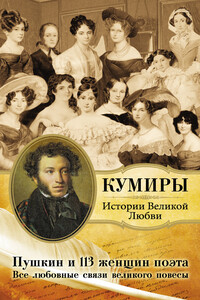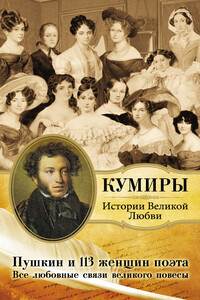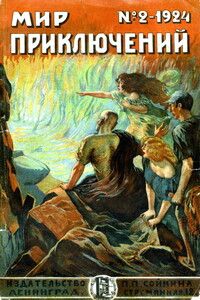Донжуанский список Пушкина | страница 65
22 мая 1824 года Пушкин получил предписание отправиться в Херсонский, Елисаветградский и Александрийский уезды и собрать там сведения о ходе работ по истреблению саранчи. Решив — опять-таки якобы по наущению Раевского — испить чашу до дна, поэт поехал в командировку, но по возвращении послал вызывающе оскорбительное письмо своему гонителю. Он плохо отдавал себе отчет в своем положении и собирался хлопотать об отставке и даже о разрешении въезда в столицы. Но Воронцов предупредил его: он отправил к канцлеру Нессельроде письмо, чрезвычайно ловко и коварно написанное. Не обвиняя прямо Пушкина и даже обронив пару двусмысленных комплиментов по адресу его таланта, он дал поэту такую аттестацию, которая должна была окончательно очернить его в глазах правительства. Письмо это, мягкое по форме, явилось по существу настоящим доносом. Сюда же примешалось дело об атеизме Пушкина, засвидетельствованном выдержками из его собственного письма, адресованного в Петербург, и также попавшего в руки власть имущих, которые в то время были одержимы чрезмерной и весьма пугливой набожностью. Результатом всего этого было высочайшее повеление — об исключении Пушкина из службы и об отправке его в Псковскую губернию в имение родителей, под надзор местного начальства.
Можно думать, что еще прежде, чем отъезд Пушкина был окончательно решен, а может быть даже еще до злополучной командировки, Пушкин и гр. Воронцова пришли к заключению о необходимости расторгнуть соединявшую их связь. Вероятно инициатива этого решения исходила от графини, и Пушкин, скрепя сердце, должен был подчиниться. Прощание между ними произошло ночью, в саду, т. е. следовательно весною или летом 1824 года. Незадолго перед этим Пушкин вынужден был также расстаться и с Амалией Ризнич, и хотя эта последняя любовь потеряла значительную долю своей былой мучительной напряженности, все же и эта разлука должна была глубоко взволновать его.
Очутившись под родительским кровом, в селе Михайловском — Зуеве, Пушкин написал 18 октября 1824 года стихотворение "Коварность", совершенно определенно подтверждающее рассказы Вигеля, хотя друг-предатель и не назван по имени.