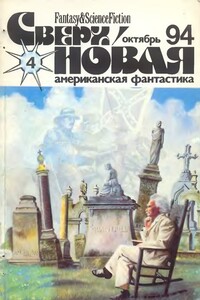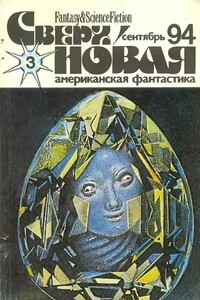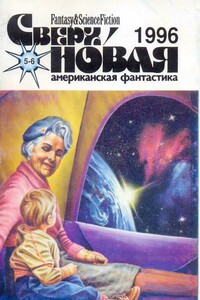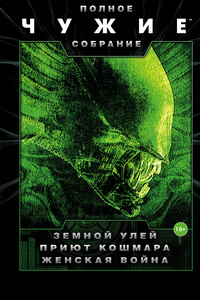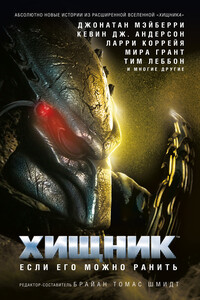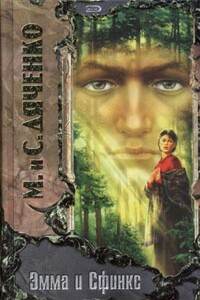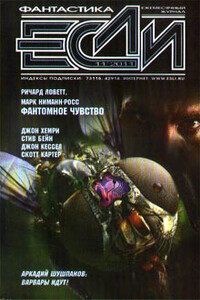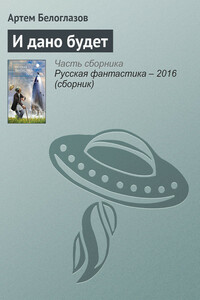Сверхновая американская фантастика, 1995 № 02 | страница 41
И наконец, у нас есть записи самого Остина, сделанные им всего за месяц до последней экспедиции. Он признавался, что «потерял контакт с остальными людьми», и что борьба против паразитов «увеличила скорость его эволюции». В контексте этих слов можно ли ожидать более естественного поступка от Остина, чем побег с Земли, чтобы присоединиться к «космической полиции»?
Но самое главное: не слишком ли лаконично он упоминает об этой полиции? Для Остина это довольно подозрительно. По идее, за этим должны последовать долгие многостраничные рассуждения. Что касается причин его молчания — некоторую разгадку дает в своей рукописи Дагоберт Феррис, один из членов той экспедиции, написавший книгу «Навстречу психологии Золотого Века». Феррис тоже исчез на «Палладе», но он оставил запись своей беседы с профессором Райхом, состоявшейся после того, как они узнали о существовании «космической полиции». Вот некоторые фрагменты этой беседы:
«Мы рассуждали о внешнем облике этих существ. Похожи ли они на нас — есть ли у них руки и ноги? А может они похожи на диковинных животных или рыб, или даже на осьминогов? Как они поведут себя — просто отберут власть у земных правителей и восстановят мир или же примут репрессивные меры против людей типа Хэзарда и Гвамбе?»
[Сам по себе этот отрывок достаточно необычен. С какой стати он считает, что «полиция» непременно отберет власть у землян? Остин действительно обсуждал с ними такую возможность? И наконец, кто решил, что Остину и его друзьям под силу остановить кризис, вызванный Гвамбе?]
«При мысли о новом «правительстве Земли» я почувствовал себя счастливым. Ибо со времен XVIII века, когда было провозглашено, что «Бог умер», человек всегда ощущал себя одиноким в пустой Вселенной, когда бесполезно взирать на небеса в поисках чьей-то помощи. Человек — словно дитя, однажды проснувшееся и узнавшее, что отец умер и что ему предстоит стать хозяином дома. Это чувство безотцовщины, безусловно, одна из сильнейших психологических травм, выпадающая на долю человека. Или еще одна аналогия. В школьные годы наше прилежание немедленно вознаграждалось подарками в конце учебной четверти, похвалой классного руководителя, благосклонностью старших наставников. Потом ты выходишь из школы, и «над тобой» нет больше никого — ты теперь сам по себе. (Помнится, я даже пытался пойти сразу после школы в армию, лишь бы снова ощутить себя «частью коллектива».) И тут наваливается странное чувство пустоты, бессмысленности всего, что ты делаешь. Безусловно, именно это ощущение лежит в основе «морального банкротства» двадцатого века.