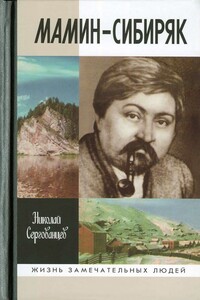История одного путешествия | страница 84
— На кой ляд сдалась мне твоя Россия? — сказал мне толстый, как булочник, рыхлый кубанец. — Ты из Москвы, ну, так и лезь туда, а мне бы только попасть в мою Новогеоргиевскую станицу. Там у меня остались три лошади и жена. Только бы лошадей большевики не тронули.
Единственным человеком, заинтересовавшимся моими разговорами о России, оказался, — о, конечно, не корнет Милешкин, продолжавший мечтать о своих романтических похождениях, а взводный первого взвода, дослужившийся до хорунжего, старый, четырнадцать раз раненный во время войн — и японской, и мировой, и гражданской — седоусый кубанец Воронов. Я несколько раз начинал говорить с ним, все не решаясь рассказать о нашем проекте уйти в горы. Наконец однажды вечером, после обеда, — кормили нас сносно, черного хлеба и красной фасоли давали вдоволь, — я выбрал минуту, когда Воронов оставался один в своем углу, и рассказал ему о существовании Ивана Юрьевича, подготовлявшего наш уход в горы. Воронов внимательно меня выслушал, долго, молча качал головой и после раздумья, перевалив табачную жвачку из-за правой щеки под левую, сказал мне:
— Басни все это. Разве можно в феврале месяце идти в Кавказские горы? На высоте — там такие ветры, что вы в вашем халатике не выдержите и одной ночи. Нет, сейчас не сезон для партизанщины.
Он внимательно посмотрел на меня и добавил:
— Я, собственно, должен был бы донести на вас по начальству, но не беспокойтесь, я ничего не скажу, все равно вы никуда из казармы не уйдете: ваш Иван Юрьевич, наверное, уже дал тёку.
Около двух недель мы провели среди кубанцев. В город нас не пускали, — по-видимому, не слишком доверяя доброй воле новых добровольцев, — только несколько раз сводили строем на ученье. Однажды мы встретили Ивана Юрьевича, — издали он приветливо помахал нам рукой, но этим дело и кончилось. Плотников совсем загрустил — он все еще верил, что Иван Юрьевич подготовляет наш уход. Федя был спокоен и даже весел. Как-то вечером, когда мы легли спать и казарма погрузилась в тишину, нарушавшуюся только дыханием, сопением и храпом нескольких десятков человек, он сказал мне:
— Я свое решение принял — иду с кубанцами.
— Но если Иван Юрьевич… — перебил я.
— Я больше не верю Артамонову. — Федя назвал Ивана Юрьевича по фамилии, резко, как чужого. — Жила тонка. Вот увидишь — он струсит.
— Еще недели две тому назад… — сказал я.
— Я ему верил гораздо дольше, чем ты, а вот теперь не верю. Я иду с кубанцами. Конечно, не так я думал бороться за Россию. Помнишь, в Марселе… Но все-таки это борьба. Через две недели мне исполнится двадцать четыре года. Похоже, что клюевское предсказанье, о котором я тебе говорил в Константинополе, не исполнится. Но ты не думай, — вдруг испугавшись, что я неверно пойму его, добавил Федя, — что я боюсь умереть. Нет, сейчас мне умереть было бы совсем легко. За последние дни я много думал об этом. Прими решение, как я, — и тебе тоже станет легко. Вот все они, — в темноте Федя кивнул в сторону спящих солдат, — мечтают увидеть свой дом, стены, в которых они родились, как бы неприглядны они ни были. Я думаю о моем отце: если он жив еще, едва ли ему в голову может прийти, что меня занесло на Кавказ. Когда я ему расскажу — боже мой, как он будет удивляться!