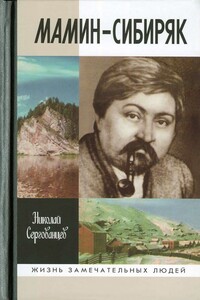История одного путешествия | страница 83
Корнет Милешкин, наш взводный, помещался в том же отделении, но спал не на нарах, а на походной кровати, с которой постоянно свешивались его ноги: кровать была ему явно не по росту. Нам Милешкин обрадовался до чрезвычайности:
— Ну вот, слава богу, наконец-то появились русские, которые не стыдятся говорить, что они русские, а то все кубанцы, терцы, донцы, черноморцы, украинцы, грузины, абхазцы, мингрелы, черкесы, осетины, азербайджанцы — конца нет. Вы москвич, — говорил Милешкин, чуть не расцеловав меня на радостях, — давайте поговорим о Белокаменной, о малиновом звоне московских колоколов, о москвичках. Какие женщины! — Милешкин покрутил и без того закрученные вверх, похожие на громоотводы, рыжие усы. — Какие женщины! На Кузнецком мосту, бывало, идешь в юнкерской шинели до самых пят, в перчатках, пояс затянут так, что вздохнуть трудно, а навстречу… боже мой!.. женщины, женщины, что ни шляпка, то мордашка, что ни шубка, то бюст. И сколько их — конца нет, только выбирай. Усом поведешь, — впрочем, тогда у меня еще усов не было, — только глазом моргнешь, как уже готово: к «Яру» так к «Яру», отдельный кабинет — пожалуйста, отдельный кабинет… и без этих провинциальных фиглей-миглей, без жеманства. О, московские женщины!
Милешкин окончательно захлебнулся от восторга. Не знаю, каким он был во времена своего безусого юнкерства, но теперь, в сухумской казарме, при тусклом свете решетчатого окошка, он производил самое жалкое впечатление. Небритый, в засаленной гимнастерке, он стоял в углу на длинных, как у журавля, негнущихся нотах. Вероятно, прошло больше недели с тех пор, как он умывался в последний раз, и от него пахло потом и грязным бельем.
В течение целого вечера Милешкин рассказывал о своих успехах, о бесчисленных покоренных им женских сердцах. Кого только тут не было — и проститутки, и купчихи, и прачки, и горничные, и трамвайные кондукторши, и светские дамы, — впрочем, все его баронессы и графини удивительно смахивали на проституток.
К полуночи Милешкин уже не говорил, а сипел из последних сил, поводя похожими на громоотводы рыжими усами. Наконец он заметил, что его рассказы не вызывают во мне должного восхищенья. Не раздеваясь, он заснул на своей походной кровати, на целый аршин выставив из-под одеяла длинные ноги в грязных сапогах. На другой день он оставил меня в покое.
Всякий раз, когда попадаешь в казарму, где все одеты одинаково, поначалу кажется, что все солдаты похожи друг на друга: те же ленивые движения, те же ругательства, произносимые вполголоса, бее всякого одушевления, та же для всех одинаковая мужская грязь. Только через несколько дней, когда я привык к кубанским пластунам, я начал различать отдельных людей. В большинстве это были малограмотные черноморские казаки, переселенные с Украины на Кубань еще при Николае I. Говорили они с очень сильным гаканьем на странной помеси украинского и русского языков. На этом сходство между солдатами кончалось, дальше начинались уже отдельные люди — большие и маленькие, молчаливые и веселые, злые и добрые. Даже никакой общей идеи, соединившей их под одной казарменной крышей, я не нашел; кто ругал большевиков кто белых, кто грузин, кто просто несчастный случай неизвестно каким образом заведший его в Сухум, кто — и таких было немало — свое собственное кубанское правительство. «Ховарун» — говорили они о Тимошенко, и каждый, в соответствии со своим характером, прибавлял нецензурный эпитет. Равнодушно, только с некоторым удивлением, они слушали меня, когда я начинал говорить о России.