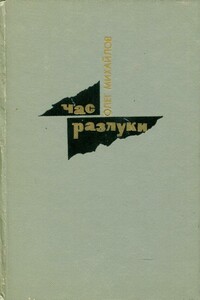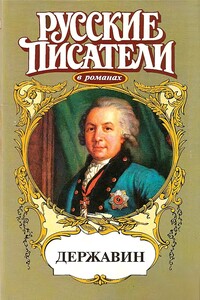Куприн | страница 93
— На табурете сидеть слишком жестко, так я беру с собой подушечку.
— А вот я посмотрю сейчас, как ты там устроил свой рабочий кабинет! — еще более строго сказала она.
— Да нет, зачем! Лучше не ходи, Маша, — просительно ответил он.
Но Мария Карловна уже шла по лесенке.
Никакого табурета на чердаке не оказалось.
Около стены было густо уложено сено, покрытое каким-то рядном.
— Вот так рабочий кабинет! — вовсе разгневалась она.
— Видишь ли, — оправдывался Куприн, — я лежу, обдумываю тему, а потом незаметно засыпаю.
— Хорошо, — отрезала Мария Карловна. — С завтраками отныне будет покончено!..
Теперь Куприн работал по-настоящему. Мария Карловна тихо подбиралась к чердаку и сразу успокаивалась, слыша наверху шаги и бормотанье: Куприн ходил взад и вперед, наговаривая себе фразы по своей любимой методе. Но над чем он работал, этого не знал никто. За чаем Любовь Алексеевна иногда спрашивала:
— О чем ты пишешь, Саша?
Куприн сердился и с недопитым чаем уходил к себе на чердак.
Однажды он спустился в библиотеку, где Мария Карловна с увлечением перечитывала старые журналы — «Современник» и «Отечественные записки», поэтов XVIII века.
— Сегодня вечерком, Маша, — сказал он, — я начну учить тебя преферансу. Я понимаю, тебе не хочется уходить из библиотеки, но без преферанса очень скучает мама. Читать она уже почти не может — слишком слабы стали глаза… А ты что читаешь? — Он взял из ее рук книгу. — А, Державин! «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил…» Дай-ка я открою что-нибудь наугад.
Он развернул том и прочел:
— Какое великолепное стихотворение! — изумился Куприн, возвращая книгу. — Звучное, торжественно-пышное и в то же время полно глубокого содержания. Думал я о том, как назвать мой новый рассказ. Все казалось мне мелким и некрасивым. «Река жизни» — так он будет называться. На днях перепишу его еще раз и тогда прочту тебе, Маша…
Рассказ «Река жизни» был превосходен, читал Куприн великолепно. Герои произведения — мадам Зигмайер и все ее семейство, поручик Чижевич, околоточный, — как живые, возникли перед Марией Карловной. Но вот дело дошло до последней главы, где появляется студент со своим монологом и близится трагическая развязка:
«Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, по нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку… Меня заставляли целовать ручки у благодетелей — у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу свой старый, трепаный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: „А вот нос моего сыночка Левушки…“ Я проклинаю свою мать…»