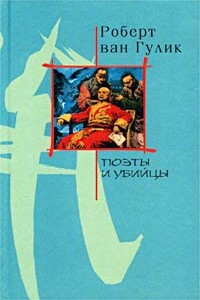Можайский-3: Саевич и другие | страница 33
Саевич же, мало-помалу приходя в себя от двух одновременных ударов — суждений Можайского и Гесса о его работах и открывшегося ему понимания, всё же насколько жестоко его обманули, — выпустил, наконец, свою голову из сжимавших ее ладоней и пробормотал:
— Ну, я и дурак!
Можайский пожал плечами:
— Согласен. Но не расстраивайтесь. Вон: друг ваш, Вадим Арнольдович, дураком перед Кальбергом оказался не меньшим. Ведь правда, Вадим Арнольдович?
Гесс, расценивший заявление Можайского как шутку, охотно согласился:
— И не говорите, Юрий Михайлович!
— К несчастью, — вмешался Чулицкий, — не только перед Кальбергом!
Гесс побледнел, покраснел, снова побледнел, но сдержался. Его вина была очевидна, и помочь делу возражениями было невозможно. Ему еще предстояло отчитаться за свои выходки у Молжанинова. И хотя о них — в общих чертах — всем, кроме меня, было уже известно, приближавшийся час отчета он ожидал, прямо скажем, без энтузиазма.
— Ну да ладно! — Его сиятельство оборвал собиравшегося что-то еще сказать Чулицкого, причем Чулицкий отступился на удивление легко. Возможно, Михаилу Фроловичу, весь этот вечер настроенному решительно против «нашего князя» и его помощника, просто надоело пикироваться с ними. А может, он руководствовался и какими-то благородными побуждениями. С Михаилом Фроловичем всегда выходило так, что знать наверняка никто ничего не мог. — Ладно, господа. Как бы там ни было, а слово — Григорию Александровичу!
Саевич, пусть еще и не успокоившийся окончательно — на его лице все еще лежала гримаса обиды, — рассказ, тем не менее, продолжил тоном вполне спокойным, а временами — даже ироничным. И я еще раз с удивлением для себя отметил, насколько легко этот человек поддавался душевным движениям, за считанные минуты переходя из крайности в крайность. Впрочем, неудобств окружающим вот именно эта его особенность не создавала, а потому на нее — хоть и была она явным свидетельством ума неуравновешенного — можно было закрыть глаза.
— Внезапно я обнаружил, что мы — барон и я — собираем мои фотографические принадлежности и, одну за другой, относим их в щегольского вида коляску с откинутым — по сухой погоде — верхом. Очевидно, я настолько погрузился в мысли об ожидавших меня переменах и перспективах, что на какое-то время напрочь выпал из реального мира и всё, что ни делал, делал машинально. Барон подметил это и, с улыбкой подхватив штатив, остался стоять у чугунного парапета:
«Вижу, вы замечтались?»