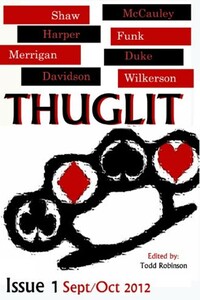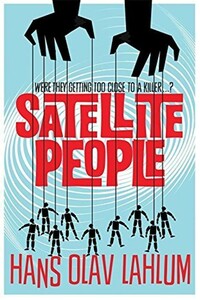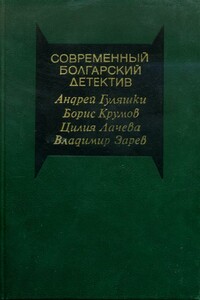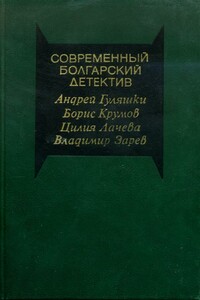Середина июля | страница 69
Тесно и жарко дымил русский кабак. Поблескивал в дыму похожими на очки глазами Иванов, всем немощным телом тянулся за тем страшным следовательским напором, которым он укреплял свой взор. Борьба с выныривающими из адской бездны грешками Апарцева постепенно развеселила Иванова, и он стал бить посуду, неосторожно двигая по столу своими безобразными клешнями. То тарелку смахнет на пол, то рюмку уронит. Но подумаешь, рюмка! Не до рюмки, когда весь трудовой народ стонет под ярмом демократов-предателей, этих продажных тварей, расхищающих народное достояние, пустивших страну с молотка и заботящихся только о собственных счетах в иностранных банках. У них валюта, а у Иванова - шиш. Разве что случайно тарелка с щедро навороченной закуской окажется под рукой. Хлоп! Тарелка на полу. Широкая русская душа насмешливо смотрит на нее сверху вниз. Раздается звон - это очередная рюмочка музыкально брызнула осколками под каблуком утратившего чувство реальности литератора. Его лицо вечного, к любому времени способного пристать чинуши тяжело сияет, отдает густым и сытным блеском медового пряника. Нажрался, размордел за весело проведенный вечерок. Официантка протестующе машет руками, а Иванов отрыгивает ей в негодующую физиономию и с достоинством разъясняет:
- Я свиньям, в отечестве нашем забравшим власть, бросаю объедки. Пусть подавятся!
Народ стонет, стонут тарелки и рюмочки, а он, Иванов, не стонет. Он сражается. И если при этом уронит рюмку на пол, не беда, найдется другая. Его дело правое, и он победит. Не беда, что какой-то там Семочкин, карьерист и выскочка, обидел его, предал его, перестал быть его другом и кумиром. И что растлитель читательской аудитории Лепетов пробирается в "Звон", хочет благородный журнал, его, Иванова, детище, прибрать к рукам. Верх в конечном счете возьмут настоящие революционеры, подлинные писатели, беззаветные народолюбцы.
Апарцев не пожелал пить за грядущую окончательную победу настоящих революционеров и писателей, не верил он в нее, другим была полна его голова. Он жил собой, своими маленькими идеями и разочарованиями, страдал в умственном тупике и душевной тесноте, и это было для него правдой, а не выдуманный Ивановым со товарищи мужичок. Народная мудрость! Где она? в чем? когда, в какие часы, в каких фазах луны она дает о себе знать? Апарцев все еще оставался элементом колеблющимся, во всем сомневающимся и ни к какой вере не примыкающим, но ни один из зигзагов его шаткости и валкости не приближал его к тому народу, о котором плакали и кричали Ивановы, хотя он не меньше Иванова любил свою страну. Грудью вскормила она его. Он любил эту огромную, бесформенную, непостижимую, жестокую и бесконечно добрую мать гораздо больше, сильнее и правильнее Иванова. Не случайно слезы выступили на его глазах. Он думал о судьбах отечества. Что стране любовь бездарного, пьяного, развязного очковтирателя Иванова? Чем Иванов лучше Лепетова? Лепетов даже талантливее. Но Лепетов прямо говорит: я презираю эту страну и этот народ. Народу нужны такие, как он, Апарцев, воистину даровитые, думающие, ищущие, чувствующие глубоко и смело. Иванов уже перешел к посулам, соблазнял приятеля блестящей чиновничьей карьерой в литературном мире: надо только твердо заявить свою позицию борца за народную правду и ее певца, безоговорочно и во всеуслышанье предать анафеме Лепетова, изгнать из своих рядов явно пошатнувшегося Семочкина, выдвинуть на должность редактораи "Звона" Иванова и заделаться его заместителем, правой рукой.