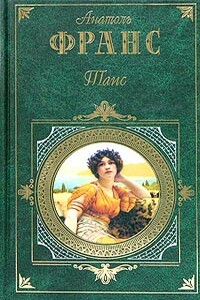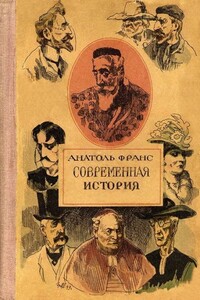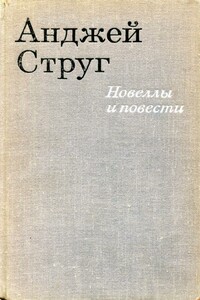На белом камне | страница 37
А маленький Коматас, сидевший на горячей мостовой, смеялся, глядя, как блестит на солнце камушек, и посасывал свой большой палец.
— Впрочем, — продолжал Мела, — ты должен признать о, Аполлодор, что его способ любить не самый нефилософский. Эта собака, конечно, умнее наших молодых палатинских развратников, которые предаются любви среди ароматов, смеха и слез, то томно, то яростно.
Пока он говорил, дикий рев поднялся в претории, оглушив уши грека и трех римлян.
— Клянусь Поллуксом, — воскликнул Лоллий, — тяжущиеся, которых судит сегодня наш Галлион, орут, как грузчики, и мне кажется, что сквозь двери вместе с их хрюканьем к нам несется смрад пота и лука.
— Совершенно верно, — сказал Аполлодор, — но если бы Посохар был философом, а не собакой, то вместо того, чтобы приносить жертву Венере перекрестков, он избегал бы всей женской породы и привязался бы только к юноше, внешнюю красоту которого он созерцал бы только, как выражение красоты внутренней, более благородное и драгоценной.
— Любовь, — сказал Мела, — страсть омерзительная. Она смущает согласие, разбивает великодушные намерения и сводит мысли наиболее высокие к заботам наиболее низменным. Пребывание ее в здравом рассудке невозможно, как учит нас о том поэт Еврипид…
Мела не кончил. Проконсул, предшествуемый ликторами, раздвигавшими толпу, вышел из базилики и приблизился к своим друзьям.
— Я был разлучен с вами не долго, — сказал он. — Дело, которое меня позвали рассудить, было совершенно ничтожное и очень забавное. Войдя в преторию, я нашел ее наводненной пестрой толпой евреев, которые продают морякам в Кенхрейском порту, в вонючих лавках, ковры, ткани, мелкие золотые и серебряные украшения. Они наполнили воздух пронзительным визгом и лютым козлиным запахом. Трудно было уловить смысл их слов, и мне понадобилось сделать усилие, чтобы понять, что один из говоривших евреев зовется Сосфеном, что он глава синагоги, и что он обвиняет в нечестии другого еврея. Этот последний был крайне уродливый, кривоногий, с гноящимися глазами. Звать его не то Павлом, не то Савлом. Он уроженец Тарса, промышляет с некоторых пор в Коринфе ремеслом ткача, и объединился со своими товарищами, изгнанными из Рима, для совместного изготовления палаточной ткани и киликийских одежд из козьей шерсти. Говорили они на скверном греческом языке и все сразу. Мне все-таки удалось понять, что этот Сосфен вменяет в преступление этому Павлу его приход в дом, где коринфские евреи обычно собираются по cyбботам и где он взял слово, чтобы склонить своих единоверцев и их последователей к служению богу способом, противоречащим их закону. Слушать их дальше мне было нечего. Не без труда заставив их замолчать, я объяснил им, что, приди они жаловаться мне на какую-нибудь несправедливость или какое-нибудь насилие, от которых им пришлось пострадать, я бы выслушал их терпеливо и со всем необходимым вниманием, но поскольку дело идет исключительно о ссоре из-за слов и о расхождении в определениях их закона, это меня не касается, и я не могу быть судьей в деле подобного рода. Потом я отпустил их с такими словами: «Распутывайте свои споры сами, как хотите».