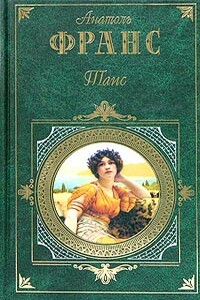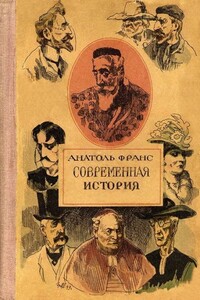На белом камне | страница 23
— У меня есть еще некоторые замечания относительно твоего бога, Галлион; спрошу тебя, например, не боишься ли ты, что от своего вечного трения о материю он износится, как изнашивается жернов от долгого размалывания зерна? Но этих вопросов быстро не разрешить, а время проконсулу дорого. По крайней мере, позволь мне сказать, что ты не прав, полагая, что бог направляет и охраняет мир, раз, по твоему собственному признанию, он, поняв все, лишил себя понимания, пожелав все, лишил себя воли и, дерзнув сделать все, — лишился могущества. С его стороны и это было очень крупной ошибкой, потому что, таким образом, он лишил себя возможности исправить свое несовершенное произведение. Что до меня, я склонен скорее поверить, что в действительности бог не тот, каким ты его описал; скорей он и есть та материя, которую твой бог однажды нашел и которую наши греки называют хаосом. Ты ошибаешься, предполагая ее косной, она непрерывно движется, и ее вечное волнение поддерживает жизнь вселенной.
Так говорил философ Аполлодор. Выслушав эту речь с некоторым нетерпением, Галлион принялся доказывать, что он не впадал в заблуждения и противоречия, в которых его уличал грек.
Но победоносно опровергнуть доводы своего противника ему не удавалось, потому что ум его не был достаточно тонок, в философии он отыскивал, главным образом, доводы, чтобы склонить людей к добродетели, и интересовался только полезными истинами.
— Пойми же, Аполлодор, — сказал он, — что бог не что иное, как природа. Природа и он — это одно. Бог и природа — суть два имени одного бытия, подобно тому, как Новат и Галлион обозначают одного человека. Если тебе так больше нравится, то бог — это божественный разум, смешанный с миром. И не бойся, что он износится, потому что его вещество причастно огню, который все сжигает и остается неизменным.
— Но если только, — продолжал Галлион, — учение мое охватывает идеи, не привыкшие соприкасаться друг с другом, не упрекай меня в том, дорогой Аполлодор, но скорей похвали меня за то, что я допускаю некоторые противоречия в своих суждениях. Если бы я не мирился с своими собственными мыслями, если бы я отдавал исключительное предпочтение одной системе, — я не сумел бы остаться терпимым к свободе мнений; уничтожив ее в самом себе, я бы не мог добровольно переносить ее в других и утратил бы способность питать уважение, подобающее каждой системе, установленной или исповедуемой человеком чистосердечно. Да сохранят меня боги от того, чтобы я допустил свое чувство исключить возможность всех остальных и позволил ему неограниченно властвовать над всяким другим пониманием.