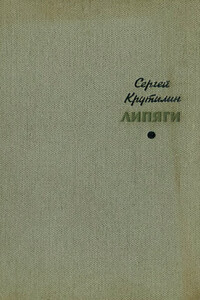Липяги | страница 18
Однажды, в самом начале зимы, по Липягам пронесся слух: отца Александра, как врага колхозного строя, ночью забрали и увезли в город.
В доме его было устроено что-то вроде клуба. Что ни вечер сюда со всех порядков спешат мужики. Мы, ребята, тоже не можем усидеть дома.
Так и на этот раз: едва ушли отец с дедом — мы с Федей следом за ними.
У изгороди поповского дома под заснеженными кустами сирени стояло несколько санных повозок. Приехало начальство. На террасе, где летом отец Александр выставлял граммофон, топтались мужики, не решавшиеся сразу войти в дом, сновали подростки. Не дожидаясь, пока нас заметят, мы с братом юркнули в дверь.
Всех — не только нас, пацанов, но и убеленных сединой стариков — поражала необычность обстановки поповского дома. Чистота. Крашеные полы натерты воском. На стенах — цветастые обои, портреты. Мебель красного дерева, с резными ножками: диваны и кресла обиты плисом. Сядешь на них и погрузишься, словно в пуховики. В гостиной — пианино, покрытое белым чехлом. Вдоль стен до самого потолка застекленные шкафы с книгами: Библия, всякие Евангелия, речения святых… Все, как одна, в кожаных переплетах, с золотым тиснением на корешках.
Осматриваясь и осторожно продвигаясь, чтобы не задеть за что-нибудь, мужики проходили в «залу».
Мы уселись на пол перед самым столом, за которым расположился президиум. Позади на скамьях мужики в ватниках, в вытертых бараньих полушубках. На натертом воском полу лужицы воды: оттаивают лапти. В зале жарко натоплены изразцовые печи. Под потолком ярко горит лампа-молния.
Я оглядываюсь и тут же среди мужиков замечаю отца. Он выделяется своей городской одеждой. На нем легкое пальто, вокруг тонкой худой шеи повязан яркий шарф. Все в шапках, а он снял свой картуз и мнет его в руках. Среди обветренных небритых мужицких лиц лицо отца бросается в глаза своею бледностью.
Зал большого поповского дома гудит от приглушенных голосов. Перешептываются и за столом президиума. Их трое: высокий, с залысинами на лбу уполномоченный из района. Рядом с ним чернявый, сухопарый, похожий на галку шахтер с Побединского рудника, зовут его все Чугунком. Третий наш, липяговский, Кузя Лукин, бывший попов работник, забитый мужичишка с белесыми ресницами и подслеповатыми глазами.
Наконец уполномоченный встал. На нем военного покроя гимнастерка с накладными карманами на груди. Широкий, с начищенной бляхой ремень затянут не туго, а лишь для порядка. И еще на нем очень чудные шаровары. Сшиты они из грубой темно-зеленой ткани, а на самых важных местах, на заду и на коленях, нашиты куски кожи. Кожа изрядно вытерлась, побелела, как футбольный мяч… Скрипнув кожей, уполномоченный встал и начал агитировать за коммунию. Говорил он про то, как жили мужики при царе: про голод, про нужду, про малоземелье. Но больше всего напирал на межи. По его словам выходило, что все беды мужицкие из-за этих самых меж. И земли-то под ними за зря много пропадает, и сор на них растет, и души мужицкие разъединяют они, эти межи… Он призывал липяговцев как можно скорее перепахать межи — тогда жизнь по-иному пойдет. Выйдут на поля машины. Мужики станут все делать сообща — и сеять и убирать. Счастье в коммунии, в единении. Чем скорее липяговцы поймут это, тем скорее они расстанутся со своей извечной нуждой.