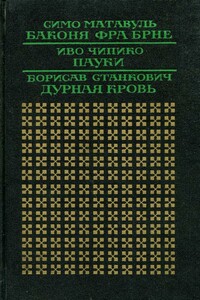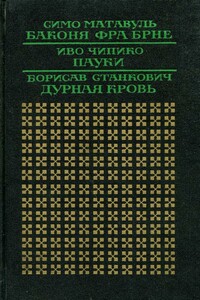Золотой юноша и его жертвы | страница 35
Он неожиданно поднял голову и посмотрел на Панкраца. Панкрац вообще не читал Ницше; поскольку книги его не интересовали, сейчас ему было безразлично, что говорит капитан; и вправду выходило, что капитан произносит монолог. Свое равнодушие Панкрац умело прятал за улыбкой, почему и капитану могло показаться, что он не высказывается только из чувства собственного превосходства. Вот и теперь он снисходительно улыбнулся, кивнул головой и сказал:
— А дальше что?
— Дальше? — капитан отодвинул от себя рюмку, которую уже собирался выпить. — Видите ли, и по сей день моей самой большой любовью остается «Фауст». Вам, наверное, лучше меня известно, что может значить «Фауст». Не далее как этой ночью я его листал и снова пришел к заключению, — а перечитывал я его уже раз восемнадцать, — что ничего в нем не понимаю. Может, это произведение слишком сложно для моего ума, или здесь, в голове, — он постучал себя по лбу, — что-то заскорузло, подобно старому солдатскому сапогу, побывавшему на маневрах. Честь и слава «величию солдата»>{12}, о котором писал де Виньи, но тут, может, и впрямь что-то отвердело, если после восемнадцатого раза я не понимаю того, что мне было ясно после первого, второго, третьего! Вот так, — протянул он певуче и снова уставился в пол. — И почему меня терзает именно Гете? Как это они его там назвали, возможно, тот же Ницше? Самым жизнерадостным и совершенным олимпийцем среди европейцев, типом гармоничного европейца, а этот гармоничнейший из европейцев, который должен был служить для нас примером жизнелюбия и счастья, зачем он придумал своего Фауста и что хотел этим сказать? Это была его самая длинная исповедь, и писал он ее, если не ошибаюсь, сорок лет как дело всей жизни, а дело это оказалось трагедией. Прошу покорно, как прикажете это понимать? Быть примером жизнелюбия и писать о себе столь трагично? Может, это потому, что в жизни в самом деле больше зла, чем добра; Фауст хоть и спасается, но, в конце концов, он все же умирает, а Мефистофель остается жить — зло торжествует, в таком случае Шопенгауэр прав. Кстати, где-то я читал, что Фауст — это духовная суть современного европейца, и люди пишут об этом с гордостью, с гордостью за то, что трагедия — наша сущность! Вот и борись за что-то! Кажется, прав Шопенгауэр со своим предложением самоубийства. Почему же тогда он сам первый не подал примера? Напротив, пишут, он наслаждался жизнью по-старчески извращенно, трясся над ней, как скупой над золотым? Так что же сбилось с пути истинного — его философия или его жизнь? Окольные пути… хорошо бы их нигде не было — ни в философии, ни в жизни, и лучшей философией была бы та, я думаю, — простите, если я вам надоел, — которая, не входя в противоречие с жизнью, могла сказать, что жизнь прекрасна и всем в этой жизни хорошо, — к этому, кажется, стремится ваш идеальный коммунизм, не так ли? Действительно, прекрасный идеал!